
Портретный жанр в эпоху Барокко: формирование в изобразительности XVII век
Рубрикатор
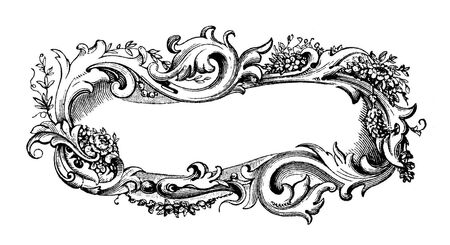
1. Концепция 2. Нидерландская традиция и её переосмысление: от реальности к эмоции 3. Голландский путь: интимность и недоговорённость 4. Испанская величественность и психологический реализм 5. Парадный портрет и театрализация величия: Франция и формирование образа монарха 6. Барочная экспрессия: Рубенс и возвращение к телу 7. Женский вклад: Артемизия Джентилески и переописание авторства 8. Выводы и закрытие: портрет как средство видения
Концепция
Портрет эпохи барокко XVII века представляет собой явление беспрецедентное в истории европейской живописи: расцвет жанра произошел не вопреки, а благодаря его переосмыслению как средства художественного высказывания, требующего постоянного диалога между мастером и моделью, реальностью и интерпретацией.
Если Ренессанс ставил перед портретистом задачу верного воспроизведения индивидуальных черт, то барокко неизбежно выдвигало на первый план проблему выражения внутреннего состояния, психологической глубины образа, драматического напряжения, скрытого под поверхностью правдоподобия.
Эта концептуальная переориентация была обусловлена сразу несколькими историческими и культурными факторами: утверждением абсолютных монархий, усилением роли католической церкви, а также глубокими сдвигами в философии того времени, переместившими в центр внимания человека не как отвлечённого идеала, а как сложное, противоречивое, эмоционально насыщенное существо.
Портретная живопись XVII столетия стала тем форматом, в котором эти новые воззрения получили наиболее полное и осязаемое воплощение, обогатив жанр множеством типологических и стилистических решений, от камерного психологического портрета до пышного парадного изображения, предназначенного маркировать социальный статус. Данное исследование предлагает проследить, каким образом барочные мастера формировали и трансформировали язык портретной живописи, превращая его в инструмент нового видения человека.
Нидерландская традиция и её переосмысление: от реальности к эмоции
Нидерланды XV–XVI веков создали определённый канон портретной живописи, которому предстояло оказать огромное влияние на развитие жанра в последующих столетиях. Особенностью нидерландских портретов была исключительная реалистичность изображения: без идеализации, с мельчайшими подробностями в передаче фактуры кожи, текстур одежды, объёма драпировок. Они словно приглашали зрителя к зрительскому расследованию личности через внешние атрибуты — украшения, одежду, предметы, окружающие модель.
Однако, когда барокко пришло на смену Возрождению, перед художниками встала иная задача. От них требовалось не просто фиксировать внешность, но — проникать в завесу видимого, обнажать те силы, которые двигали человеком.
Караваджо, хотя он утверждал свой гений в большей степени на иных жанрах, в портретной живописи явил себя подлинным революционером, применив принцип избирательного освещения — кьяроскуро — который лучше всего подходил для раскрытия психологического напряжения.
Антонис ван Дейк, Конный портрет Карла I, 1637–1638 гг., холст, масло; Национальная галерея, Лондон
Его портреты (среди которых произведения, написанные в начале XVII века в Риме) отличались от нидерландских образцов тем, что лицо, погружённое в полумрак, словно озаряемое единственным пучком света, получало зловещее, трагическое выражение. Модель казалась пойманной в момент внутреннего кризиса.
Ван Дейк, ученик Рубенса, в своих портретах развил иную стратегию: он выбрал путь психологического разоблачения через позу, жест, расположение фигуры в пространстве.
Вот как Ван Дейк, принимая традицию нидерландского реализма и опыт барочного драматизма, создавал парадные портреты королевского двора.
Его «Конный портрет Карла I» заимствует композиционную схему, которую некогда применил Веласкес, однако в манере Ван Дейка поза короля на коне получает иное наполнение: фигура монарха как бы парит над реальностью, подчеркивая верховенство королевской власти, но одновременно — её хрупкость, неустойчивость, предчувствие грядущих бед (Карл I вскоре потеряет трон и жизнь).
Ван Дейк выводил своих персонажей словно на сцену, где каждый жест имел значение, каждая складка одежды обретала смысл, каждое выражение лица говорило о внутреннем неразрешённом конфликте. Его придворные портреты, написанные при дворе Карла I в Англии, отличались утончённостью: он избегал грубого величия, заменяя его сдержанной элегантностью.
Голландский путь: интимность и недоговорённость
Картина развития портретной живописи в барочной Голландии отличается принципиальной противоположностью тому пути, который избрали итальянские, испанские и французские мастера. В то время как в католических странах портрет служил инструментом обслуживания церкви, монархии и аристократии, голландская республика, с её протестантской идеологией и преобладающим классом купцов, создала совершенно иную портретную культуру. Здесь не было нужды в пышных парадных представлениях королевского величия, вместо того заказчиками портретов становились люди среднего звена, требовавшие не возвышенного идеала, а верного отображения их статуса, профессии, индивидуальных черт.


Рембрандт ван Рейн, Автопортрет в возрасте двадцати восьми лет, 1628–1629, холст, масло; Mauritshuis и Рембрандт ван Рейн, Автопортрет в возрасте тридцати четырёх лет, 1640, холст, масло; The Wallace
Рембрандт Харменс ван Рейн (1606-1669) не просто следовал традиции: он переплавил её в совершенно новый сплав.
Его ранние автопортреты, написанные в позиции праздного денди или экстравагантного молодого амбициозного живописца, постепенно трансформировались по мере старения художника. Если его ранние портреты начала XVII века изобилуют броскими костюмами, театральными позами, яркими контрастами света и тени, то поздние работы 1640-1660-х годов говорят о совершенно ином мировосприятии. Автопортрет 1628 года демонстрирует молодого художника, облачённого в роскошный наряд, с украшениями, в позе полной уверенности. Позже, когда Рембрандту исполнилось 34 года, он написал один из своих самых монументальных автопортретов, где облачён в мех и цепь, но глаз его уже меланхоличен, и в лице чувствуется осознание хрупкости величия.
Психологическая углублённость, которой достигал Рембрандт, строилась не на внешних эффектах, а на уникальной способности выявлять в человеческом лице те микродвижения мышц, те едва заметные смещения света и тени, которые свидетельствуют о присутствии в человеке чего-то большего, чем простое воспроизведение черт.
Его техника письма, свободная, почти ненапряжённая, позволяла ему создавать впечатление живого дыхания натуры, словно модель только что вошла в ателье и вот-вот начнёт говорить. Эта иллюзия живости, достигаемая отнюдь не посредством тщательной полировки каждого сантиметра холста, а через знание анатомии, глубокое понимание пластической природы человеческого тела и света, создавала портреты, в которых каждое поколение зрителей узнавало свои переживания.
Портретная живопись Рембрандта вводит в арсенал барочного портретиста такую категорию, как недоговорённость, принципиальную незавершённость образа. Его модели словно пребывают в состоянии внутреннего размышления, какого-то невысказанного чувства, которое зритель приглашается домыслить самостоятельно.
Испанская величественность и психологический реализм
Диего Веласкес, Портрет Филиппа IV в коричневом костюме с серебром, ок. 1631-1632, холст, масло; Национальная галерея, Лондон
На этом портрете король предстаёт в полный рост, облачённый в парадный наряд, на фоне архитектурных элементов дворца. Однако выражение его лица, обрамлённое характерной причёской XVII века с волнистыми волосами, говорит не о величии, а о грусти.
Взгляд Филиппа IV направлен в пустоту, будто король переживает некий внутренний конфликт, противоречие между образом, который он должен являть миру, и той хрупкой человеческой природой, которая скрывается под мантией королевской власти. Так, Веласкес создал портрет, в котором официальная репрезентативность, казалось бы, основной смысл парадного портрета, уступает место психологической правде.
Веласкес неоднократно обращался к образу папы Иннокентия X, создав ряд портретов, на которых отразилось его понимание величия как явления сложного, амбивалентного. «Портрет папы Иннокентия X» демонстрирует престарелого понтифика, восседающего на кресле, с выражением лица, в котором слышны ноты недовольства, утомления, но одновременно — непоколебимого сознания своей духовной власти. Красный цвет его облачения контрастирует с белизной воротника и капюшона, создавая ощущение того, что облик папы и его сан — это две разные реальности, которые с трудом уживаются в одном человеке.
Диего Веласкес, Портрет папы Иннокентия X, ок. 1650, холст, масло; Галерея Дориа-Памфили, Рим
Портреты Веласкеса пронизаны редким качеством истинной деликатности, уважением к модели.
Если итальянская барочная традиция часто превозносила определенную идею, то Веласкес оставался верен реальности, хотя и преображённой светом и композицией. Его техника письма отличается лаконичностью: он избегает лишних деталей, позволяя холсту местами просвечивать, создавая тем самым ощущение неполноты, незавершённости, что, парадоксально, делает образ более живым.
Парадный портрет и театрализация величия: Франция и формирование образа монарха
XVII век во Франции стал эпохой утверждения абсолютной монархии, кульминация которой приходится на правление Людовика XIV (1643-1715). Портретная живопись этого периода приобретает совершенно иной характер, нежели в других европейских странах. Если испанский портрет, даже королевский, сохранял некоторую психологическую тонкость, то французский парадный портрет утверждал величие как абсолютную категорию, не допускающую сомнения или амбивалентности. За время правления Людовика XIV было создано около 300 официальных портретов, каждый из которых следовал чётко разработанной иконографической схеме. Портреты Людовика XIV, написанные Клодом Лефевром в 1670 году и особенно знаменитый портрет, созданный Гиацинтом Риго в 1701 году, воплощают определённый канон репрезентативности.
Портреты Людовика XIV функционируют как средство не столько личного представления, сколько государственной идеологии. В них утверждается идея о Людовике как о помазаннике Божьем, о наместнике Бога на земле, чьё положение настолько далеко выше обычного человека, что между ним и остальным человечеством пролегает непреодолимая пропасть. Каждая деталь на этих портретах — выразительно поднятая голова, уверенный взгляд, блеск драгоценностей, упругая драпировка ткани — служит цели создания образа неоспоримого величия, образа, не подлежащего критике или рассмотрению с психологической точки зрения.
Интересно отметить, что парадный портрет французского образца оказал решающее влияние на формирование портретной иконографии по всей Европе, включая её периферийные регионы. Монархи, мечтавшие о таком же признании величия и легитимности своей власти, требовали, чтобы их писали по образцу Людовика XIV.
Король изображён в полный рост, облачённый в церемониальную мантию из лионского бархата, расшитую королевскими лилиями, с горностаевым подбоем. За его спиной возвышается колонна, а всю композицию обрамляют пышные драпировки. Положение тела короля — слегка развёрнутая трёхчетвертная поза — заимствовано из той схемы, которую ввёл в портретный обиход Ван Дейк.
Однако если английский мастер в своих королевских портретах оставлял место для внутреннего сомнения, для той капли меланхолии, которая гуманизирует образ, то французские портретисты тщательно устраняют всё, что могло бы нарушить величественность.
Гиацинт Риго, Портрет Людовика XIV, 1701, холст, масло; Музей Лувр, Париж
Барочная экспрессия: Рубенс и возвращение к телу
Питер Пауль Рубенс (1577-1640), фламандский мастер, занимал совершенно особое место в портретной культуре своего времени. Его творчество можно рассматривать как своего рода противовес рембрандтовской интимности и французской монархической величественности. Рубенс утверждал в портретной живописи категорию телесности, чувственности, эротического потенциала образа. Его портреты — это гимн материальности человеческого тела, его объёмности, его пластических возможностей.
Рубенс писал свою первую жену Изабеллу Брант в 1609 году в композиции, которая стала образцом для поколений европейских портретистов — «Автопортрет с женой Изабеллой Брант» (1609). Эта картина дышит интимной простотой, которая придаёт портрету человеческое измерение: художник и его жена сидят рядом в саду, в их позах — спонтанность, естественность. Однако в то же время в способе, каким Рубенс изображает плоть, одежду, играющий свет, — проявляется его виртуозная техника, его способность превозносить материальность до уровня философского утверждения. Полнота форм, которой Рубенс наделяет своих персонажей, несёт в его творчестве иное значение, чем в современной ему испанской или французской традиции.
Питер Пауль Рубенс, Автопортрет с женой Изабеллой Брант, 1609, холст, масло; Старая пинакотека, Мюнхен
На этом портрете двое — художник и его жена — предстают не просто супругами, но партнёрами в жизни, в любви, в искусстве. Рубенс пишет себя не в экзотических одеяниях или высокопарных позах, но в простой, естественной позе, слегка развернувшись к зрителю. Его взгляд прямой, доверчивый. Обрамление листьями и цветами — не просто декоративный элемент, но символ природности, органичности человеческого союза. В этом контексте Рубенс критикует как холодную идеализацию Возрождения, так и театральность позднейшей официальной портретной живописи.
Женский вклад: Артемизия Джентилески и переописание авторства
История портретного жанра в XVII веке, рассказываемая обычно в терминах величайших мастеров — Рембрандта, Веласкеса и др.– нередко оставляет в тени тот факт, что этот период был ознаменован появлением одной из наиболее одарённых художниц барокко, чьё творчество вносило в жанр принципиально иное содержание.
Артемизия Джентилески (1593-1656), итальянская художница, дочь известного живописца Орацио Джентилески, работавшего в манере Караваджо, стала первой женщиной, принятой в престижную Академию искусств дель Дизайно во Флоренции.
Это было событие беспрецедентное не просто в культурном смысле, но — в смысле переговоров о самой природе авторства и признания в эпоху, когда женщины практически не имели доступа к средству выражения, которым была живопись.
Артемизия Джентилески, Автопортрет в образе святой Екатерины Александрийской, 1615–1617, холст, масло; Национальная галерея, Лондон
Артемизия изображает себя сидящей за мольбертом, держащей в руке палитру и кисти, в полном облачении святого, что создаёт редкое напряжение между её идентичностью художницы и её репрезентацией святой.
Автопортреты Артемизии, хотя их создано меньше, чем у Рембрандта или других её современников, носят совершенно особый характер. «Автопортрет в образе святой Екатерины Александрийской» (1615-1617) демонстрирует художницу в образе святой, но это не простая иконографическая игра.
Артемизия Джентилески, Автопортрет как аллегория живописи, 1638-1639, холст, масло, 98,6×75,2 см; Кенсингтонский дворец, Лондон
Позже, уже в зрелости, Артемизия создала «Автопортрет как аллегория живописи» (1638–1639), в котором она изображает себя в образе самой Живописи — того идеального персонажа, который традиционно воплощался мужчинами в масках.
Здесь Артемизия совершает радикальный жест: она присваивает себе право на аллегоричность, на символичность, на универсальность образа, которые в патриархальной системе искусствознания обычно резервировались для мужских фигур.
Её золотистые одежды развиваются в воздухе, её волосы распущены, её лицо отражает концентрацию, вдохновение — она явлена миру не как частное лицо, но как воплощение самого искусства.
Выводы и закрытие: портрет как средство видения
Портретный жанр в эпоху барокко XVII века прошёл через глубокую трансформацию, которая едва ли может быть охарактеризована как простое развитие или совершенствование. Это была трансформация основного содержания жанра, его функции, его философского смысла. Если Возрождение видело портрет в качестве зеркала, верно отражающего индивида в его исторической конкретности, то барокко ввело портрет в более сложную систему отношений — между личным и универсальным, между частным и пропагандистским, между правдой и условностью. Рембрандт научил нас видеть в портрете пространство для невысказанного, для тайны человеческой субъективности, которая не может быть полностью выражена ни словом, ни образом. Веласкес продемонстрировал, как величие может быть изображено не через барочный излишек, а через редкую скромность и психологическую точность. Рубенс вернул портрету его телесность, его связь с природой, с жизнью как таковой. А жёсткие по своему идеологическому смыслу портреты Людовика XIV показали, как портретный жанр может быть полностью инструментализирован в целях государственной власти.
Что объединяет все эти полярные позиции, так это общее убеждение в том, что портрет — это не просто запись внешности, но средство видения, средство, через которое художник и зритель устанавливают контакт с тем, что находится за пределами видимого. Барочный портретист не довольствовался поверхностью; он требовал проникнуть в глубину. И эта потребность в глубине, в правде внутреннего мира, сформировала портретный жанр XVII века в такую систему, в которой каждый штрих кисти, каждое пятно света и тени, каждая пауза в композиции обретают значение высказывания о природе человеческого существования.
Демченко А. И. Эпоха Барокко — магистрали художественного творчества (Очерк второй) // Манускрипт. 2019. № 5.
Карякина Т. Д. Портрет в западноевропейском фарфоре XVIII века // Исторический журнал: научные исследования. 2021. № 5.
Портреты эпохи барокко // Gallerix.ru: база данных произведений изобразительного искусства. — 2025. — URL: https://gallerix.ru/pedia/genres--baroque-portraits/ (дата обращения: 15.11.2025).
Щеглов О. Ю. Караваджо: итальянский художник эпохи барокко // Gallerix.ru. — 2025. — URL: https://gallerix.ru/pedia/old-masters--caravaggio/ (дата обращения: 15.11.2025).
Щеглов О. Ю. Веласкес: художник испанского барокко // Gallerix.ru. — 2025. — URL: https://gallerix.ru/pedia/old-masters--velazquez/ (дата обращения: 15.11.2025).
Щеглов О. Ю. Рубенс: фламандский художник эпохи барокко // Gallerix.ru. — 2025. — URL: https://gallerix.ru/pedia/old-masters--rubens/ (дата обращения: 15.11.2025).
В чём секрет автопортрета Рембрандта, который побил рекорд мировых аукционов // Kulturologia.ru. — 2020. — URL: https://kulturologia.ru/blogs/200820/47182/ (дата обращения: 15.11.2025).
Грантем В. История портрета. Эволюция портретного жанра в европейской живописи XV–XVIII веков // Livejournal — 2017-2018. — URL: https://vanatik05.livejournal.com/26043.html (дата обращения: 15.11.2025).
Las Meninas, Velazquez: анализ, интерпретация // Gallerix.ru. — 2025. — URL: https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--las-meninas/ (дата обращения: 15.11.2025).
O’Neill F. Self-portraits by Rembrandt // Journal of Optics. — 2016. — Vol. 13. — URL: https://nplus1.ru/news/2016/07/14/Rembrandt-used-optics (дата обращения: 15.11.2025).



