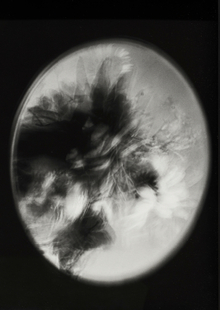Нигредо. Кто будет пятнадцатым?
В предыдущей главе мы описывали танец вокруг чёрного костра пустоты — всмотримся теперь в его чёрное пламя, чтобы увидеть не простое отсутствие, а особую форму интенсивности.
Выбитый передний зуб может сделать иного человека очаровательным.
В знаменитом коане о «полезности чашки» её пустота здесь — не отсутствие содержимого, а позитивное качество, делающее чашку чашкой. Это и есть особого рода интенсивность — она не прибавляется к форме сосуда, а организует его как целое.

Японская пиала тяван
В японской эстетике говорят о ма (間) — промежутке или паузе, которая не просто разделяет элементы, но создаёт особое качество их со-присутствия, подобно тому, как в космологии тёмная материя не видима, но мы можем наблюдать её эффекты — то, как она искривляет пространство отношений между видимыми телами.
Другое японское слово му (無) — «пустотность» или «отрицание», которая в дзен-буддизме понимается не как простое отсутствие, а как особая форма присутствия. Когда монаха Чжао-чжоу (яп. Джошу; 778-897) спросили, есть ли у собаки природа Будды, он ответил «Му!» («Нет!», но это «нет» особого рода — означающее, по выражению Роберта Пирсига, скорее что-то вроде «возьми свой вопрос обратно»: «Например постоянно утверждается, что логические элементы в компьютере могут принимать только два состояния — либо напряжение соответствует „единице“, либо „нулю“. Что за глупость! Любой инженер-электронщик убедит вас в обратном. Попробуйте определить логическое состояние, когда выключено электричество! Электросхемы пребывают в состоянии Му». [2]).
В русском языке тоже есть такое «му»: это слово «ничего»:
— Ничего себе! — Что? — А, ничего…
У Сартра в «Бытии и ничто» пустота (néant) — это не просто нехватка чего-то, а позитивная сила; человек «проклят свободой» именно потому, что в его сердце — эзистенциальное ничто, которое сопротивляется любым попыткам фиксации сущности, но делает возможным само человеческое существование как проект [3].
Пауль Тиллих развивает эту идею, говоря о «предельной заботе» как о состоянии, возникающем из встречи с той бессмысленностью, которая заставляет человека искать смысл [4]. Эта онтологическая тревога не может быть устранена, но именно её неустранимость электрифицирует эти поиски. Интенсифицирует эти поиски.
Делёз определяет интенсивность как то, что вводит предшествующее феноменам различие в однородность: «Интенсивность — форма различия как причины чувственного. Любая интенсивность дифференциальна, заключает в себе различие… Интенсивность — это различие, но такое различие стремится к самоотрицанию, самоликвидации в своём качестве и пространстве. Действительно, качества — это знаки, вспыхивающие на стыках различия» [1]. В отличие от экстенсивных величин (длина, площадь, объём), которые можно разделить на части, интенсивность неделима. Нельзя взять температуру в 100 градусов и получить две температуры по 50 градусов — при делении пополам ёмкости с горячей водой мы получим две ёмкости с той же температурой.
Интенсивность не суммируется и не вычитается — она качественно преобразует пространство; толкуя Делёза, Михаил Ямпольский пишет: «Первоначальное состояние мира — это интенсивность, в которой возникают асимметрии. Это, в сущности, нарушение однородности пространства. Метрическое экстенсивное пространство возникает из неметрического интенсивного, которое постепенно дифференцируется» [5]. Иными словами, всё дифференцированное, протяжённое, направленное, действующее рождается из флуктуаций интенсивности внутри монолитного ничто.
Первый жест художника, который укалывает белый лист кончиком остроотточенного карандаша — это не добавление элемента, а нарушение однородности и высвобождение потенциального. Как мы показали ранее, новорождённая точка размечает всё пространство листа, создавая силовые линии и зоны напряжения — порождая складки. В предыдущей главе мы называли это «танцами вокруг дыры» — теперь мы видим, что сам этот прокол есть не что иное, как чистая интенсивность. Позже мы свяжем это с бартовским punctum’ом.
Художник не знает, насколько остёр карандаш, так как не разглядывал его под микроскопом; не знает он и о том, какова под микроскопом текстура бумаги. Поэтому для нас это не механическое взаимодействие двух объектов, а нечто более сложное. В терминах Хармана, встреча острия с поверхностью всегда опосредована «викарной причинностью», когда объекты влияют друг на друга через свои чувственные качества, оставаясь при этом изъятыми из прямого контакта [4]. Точка на бумаге — это своего рода «перевод» между двумя языками реальности (условно, языком «карандашности» и языком «бумажности»), и интенсивность прокола позволяют реальному проявиться в чувственном, не теряя при этом своей фундаментальной недоступности. Укол иглы создаёт не только физическое отверстие в коже, но и особое качество боли. Эта боль — интенсивность, которая не сводится ни к механическому воздействию, ни к нашему сенсорному переживанию.
Делёз говорит об интенсивности как о «мере несоизмеримого», которая позволяет со-присутствовать несовместимым элементам. Как собрать воедино разнородные элементы — например, лист бумаги и его текстуру, художника, его глаз, карандаш в его руке, острие этого карандаша, — не подчиняя их единому принципу?
Помочь с этим нам могут размышления над особым типом отсутствия, который мы обнаруживаем в саду камней Рёан-дзи в Киото. Как известно, пятнадцать камней там расположены так, что с любой точки всегда видны только четырнадцать; пятнадцатый же камень функционирует как структурирующее отсутствие — как интенсивность, которая организует всё пространство сада.
Сад камней при храме Рёан-дзи (1499) Киото, Япония
Мы понимаем, что сад камней — очень харманианская иллюстрация, ибо демонстрирует фундаментальную недоступность реальности для любых попыток её полного схватывания. Подобно тому, как реальный объект у Хармана всегда превосходит сумму своих отношений и манифестаций, композиция сада всегда содержит в себе нечто большее, чем может быть явлено в любой отдельный момент восприятия. Пятнадцатый камень может быть метафорой принципиальной избыточности реального по отношению к воспринимаемому. Его «невидимость» — это не качество камня и не особенность нашего восприятия, а интенсивность особого рода, которая делает сад тем, что он есть. Но пятнадцатый камень — это не просто спрятанный объект, а блуждающее качество: роль невидимого элемента могут принять на себя разные камни, в зависимости от положения наблюдателя. Шагая вдоль границ сада, зритель синергетически участвует в перераспределении интенсивности отсутствия. Каждый шаг становится онтологическим жестом, меняющим конфигурацию пустоты.
А если наблюдатель уйдёт, то невидимым пятнадцатым камнем станет он сам.
Это подводит нас к анархической идее: если каждый элемент определяется не позитивными качествами, а интенсивностью своего отсутствия, то невозможна никакая устойчивая иерархия, а только взаимодействие автономных сил, где каждый актор одновременно присутствует и отсутствует, действует и претерпевает действие.
Как такую теорию пресуществить в композиционную практику? Об этом поговорим в следующей главе.
Библиография
1. Делёз Ж. Различие и повторение / Пер. с фр. Н. Б. Маньковской, Э. П. Юровской. — СПб.: Петрополис, 1998. — 384 с. 2. Пирсиг Р. Дзен и искусство ухода за мотоциклом / Пер. с англ. М. Немцова. — М.: АСТ, 2015. — 480 с. 3. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии / Пер. с фр. В. И. Колядко. — М.: Республика, 2000. — 639 с. 4. Тиллих П. Мужество быть / Пер. с англ. Т. И. Вевюрко. — М.: Модерн, 2011. — 240 с. 5. Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозова, О. Мышкина. — Пермь: Гиле Пресс, 2015. — 152 с. 6. Ямпольский М.Б. Изображение: Курс лекций. — М.: НЛО, 2019. — 424 с.