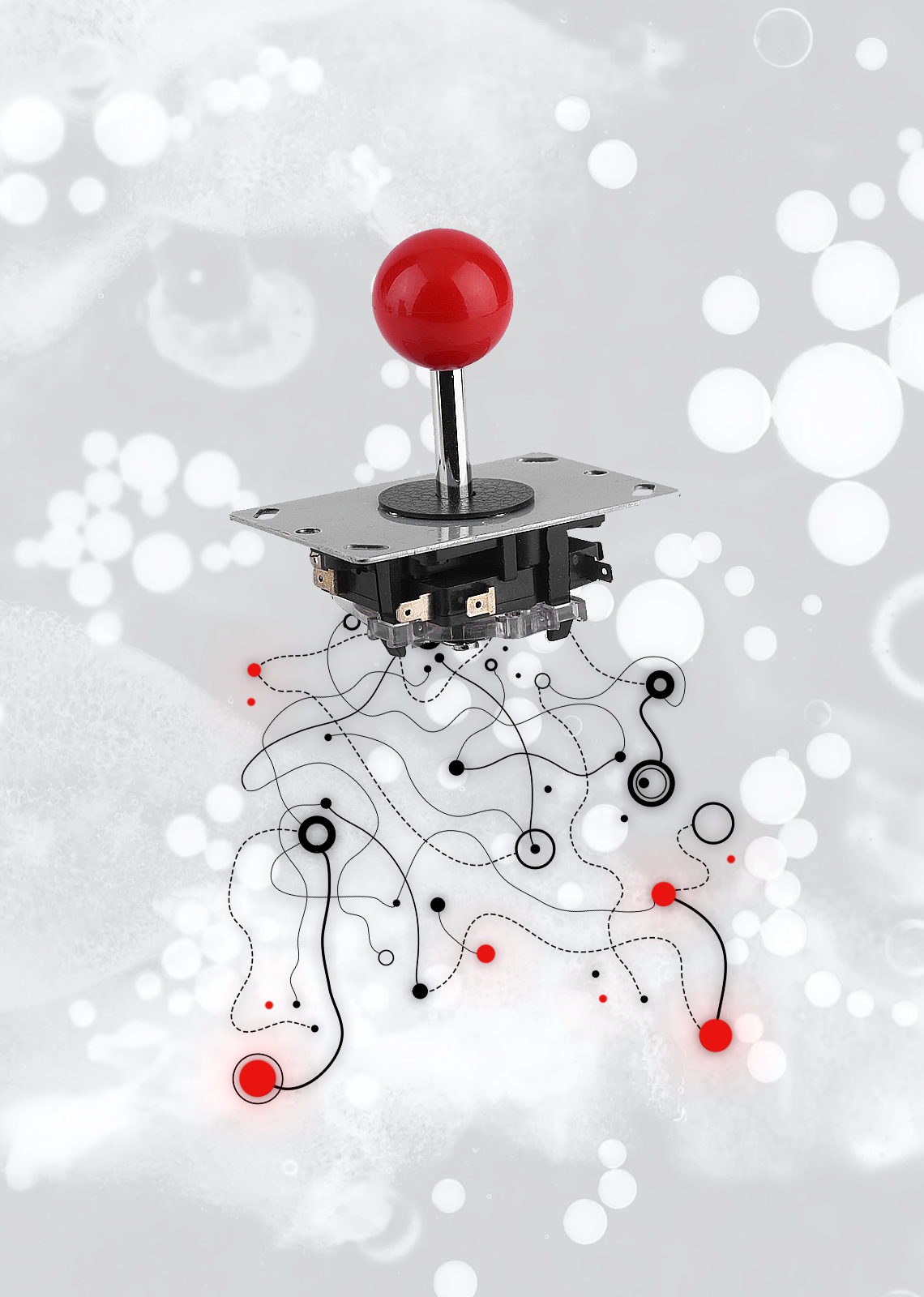
Что делает вещи играми? Людификация и людоморфизмы
1. Введение. О прибавочном элементе
Понятие «прибавочного элемента» вводится Казимиром Малевичем в его работе «Мир как беспредметность» [Малевич, 1998]. Прибавочный элемент, попадая в ту или иную систему (социальную, визуальную, техническую), вынуждает эту систему либо уделить ресурсы на его устранение, либо перестроиться и создать «новую норму» — как выражается Малевич, «новый реализм вещей» [Малевич, 1998, с. 67], включающий прибавочный элемент внутри нового гармонического порядка.
В этой работе мне хотелось бы рассмотреть гипотезу о «людическом» («игровом») как прибавочном элементе, влияние которого можно обнаружить в ряде систем современности.
Людическое мной определяется прежде всего с опорой на концептуализации из сферы исследований видеоигр (game studies). Я понимаю его как специфическое социо-техническое явление, проявившееся с развитием и популяризацией электронных игр и игровой индустрии. Иначе говоря, людическое — основной объект изучения game studies как современной дисциплины.
Людическое не ограничивается «играми». Дебаты об онтологии игр (поиски ответов на вопрос «что такое игра?») в game studies, изначально призванные обосновать автономию этой дисциплины через формализацию её основного объекта, в итоге породили то, что Ян Богост, вдохновившись концепцией Джона Ло (цит. по: [Богост, 2015, с. 97]), окрестил «бардаком» (mess) [Богост, 2015]. В условиях онтологического «бардака» частью игры может стать что угодно.
Алекс Геккер развивает тезис Богоста о «видеоиграх как бардаке» в своём критическом описании современного состояния исследований видеоигр в статье Against Game Studies [Gekker, 2021]. Он пишет:
«…стремительная дигитализация наряду с распространением геймплейных элементов в неигровых медиа сделали объекты исследования чрезвычайно пористыми» [Gekker, 2021, p. 77]
И далее:
«…по мере ускорения этих процессов, <…> вопрос „что такое игра и где её границы“ значит всё меньше, чем вопрос „что игро-подобные объекты значат для индивида и для общества.“» [Gekker, 2021, p. 77]
Изучение людического сонаправлено именно второму вопросу. Людическое — это то, что делает неигровые объекты «игро-подобными» (game-like), и «убеждает» в этом игро-подобии тех, кто взаимодействует с этим объектом.
Учитывая очерченное выше определение людического, я не претендую на изучение «игрового» в общем антропологическом или культурологическом смысле, как это было сделано Йоханом Хёйзингой в Homo ludens [Хёйзинга, 1992]. При этом, современное людическое в значительной степени коннотировано понятием «игры» в этом общем смысле.
Ниже мы увидим (в том числе на визуальном материале), как людическое оперирует этими и другими коннотациями, чтобы, включаясь во всевозможные системы, придавать им характер «игровых» или «геймифицированных». Таким образом людическое всё больше укореняется в современности и всё заметнее определяет её характер — сподвигая некоторых авторов к тому, чтобы провозглашать сам наступающий век «людическим» (ludic century) [Zimmerman, 2015].
2. Геймификация и людоморфический актор
Явным примером того, как не-игровые системы приобретают людические свойства, является геймификация. Матьяс Фукс определяет геймификацию как «проникновение или внедрение элементов гейм-дизайна в социальные области» («penetration or infiltration of social sectors [by] game design elements») [Fuchs, 2012].
Геймификацию можно представить как «фронтир людического», где игровые элементы включаются во всё большее количество социальных систем и перестраивают их динамику. Таким образом, можно предположить, что геймификация наиболее наглядно демонстрирует людическое как «прибавочный элемент» по Малевичу.
Ярослав Копеч в своей критической статье Let’s put programs in our minds. The ideology of gamification. Case study of HabitRPG, чтобы описать то, как система приобретает «игровые» свойства, обращается к терминологии акторно-сетевой теории Бруно Латура и вводит понятие идеоморфического актора (ideomorphic actor) [Kopeć, 2015].
Копеч опирается на утверждение Фукса о том, что система становится игровой только в том случае, если между ней и пользователем действует интерфейс, который сообщает пользователю игровой характер системы и способы игры. При этом, такое преобразование возможно даже в том случае, когда система как объект ранее (до включения интерфейса в актор-сеть) не воспринималась как «игра»:
«Вот почему необходимо нечто помимо материального объекта, чтобы сделать что-то игрой. Проще говоря, должно быть что-то, что может проинформировать помещённого в контекст человека, что система, на которую он (а) смотрит — это игра; и проинструктировать его или её, какого рода поведения система ожидает от него или неё, даже когда некоторый объект необязательно должен ассоциироваться с игрой» [Kopeć, 2015, 10]
Идеоморфический актор — как раз такой интерфейс; актор, который осуществляет медиацию между объектом и пользователем таким образом, что возникающая система приобретает людический, игровой характер.
Так же опираясь на концепции Фукса, Копеч предлагает три типа геймификационных идеоморфических акторов:
— Людический метод (ludic method); — Людическая метафора (ludic metaphor); — Людический атрибут (ludic attribute).
«Это — три ключевых элемента геймификации. Это те элементы, которые, будучи внедрёнными в не-игровой контекст, „заражают“ его свойствами игро-подобия. Эти три аспекта геймификации появляются в некоторых не-игровых контекстах в разных пропорциях, и постепенно превращают определённую систему в геймифицированную.» [Kopeć, 2015, 10]
Людический метод — набор правил поведения, следование которым обеспечивает успех («победу») внутри определённой системы. Копеч приводит пример ресторанной акции «2 по цене 1».
Людическая метафора, по Фуксу — «фигура речи, построенная на коннотациях, отсылающих к семантическому полю игр и играния» («figure of speech that is built upon connotations to the semantic field of games and play» [Fuchs, 2012]).
Людический атрибут — это визуальная или аудиальная аллюзия на игры (узнаваемые игровые элементы). Например, графический паттерн, напоминающий рулеточный стол, жетоны для игры в «покер», звук перетасовывания колоды, т. д.
Emberton, O. Life is a Game: This is your strategy guide
В отличие от людического метода (представляющего собой правила взаимодействия), людические метафоры и атрибуты принципиально направлены на то, чтобы создать у рецепиента ощущение: система, с которой он взаимодействует, обладает игровыми свойствами. К частым людическим метафорам, встречающимся в геймификации, относятся выражения типа «прокачать персонажа», «заработать очки», «пройти на следующий уровень». К людическим атрибутам — изображения игральных костей, характерная пиксельная графика.
Таким образом, прибавочный элемент людического может в разной степени состоять из этих трёх компонентов. Уже здесь можно заметить, что эти компоненты (идеоморфические акторы) могут возникать не только в целенаправленно геймифицируемых интерактивных системах, но и, например, в повседневности или публицистике.
Я предлагаю называть людические идеоморфические акторы — людоморфическими акторами. Ещё короче — «людоморфы» (следуя словообразованию в терминологии Латура [Латур, 2020, с. 296]).
Процесс внедрения людоморфов в систему и приобретение ею людических свойств я предлагаю называть «людификация».
Свойство, которое система приобретает в результате людификации — «людоморфизм».
В качестве примера геймификации в публицистике Копеч приводит публикацию Оливера Эмбертона в его онлайн-блоге, озаглавленную Life is a game. This is your strategy guide [Emberton, 2014]. Это иллюстрированный текст, использующий людоморфические акторы, чтобы представить жизнь как видеоигру.
Среди людических метафор, например, используется идея «мини-игр» («вождение», «спорт», «отношения»), игр внутри основной игры-жизни, с которыми придётся справляться в ходе «игрового процесса». Среди людических атрибутов наиболее заметной является пиксельная стилизация:
«…аллюзия на узнаваемый графический стиль современных пиксельных инди-игр (Fez, Spelunky, Superbrothers: Sword & Sorcery), которые сами отсылаются на более старые, классические игры из восьмибитной эры (Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Final Fantasy). Этот конкретный выбор графического стиля делает репрезентацию игрока — пиксельного аватара — очень дистанцированной. Он напоминает персонажа из старой (old-school) видеоигры или мультяшного персонажа.» [Kopeć, 2015, p. 18]
Emberton, O. Life is a Game: This is your strategy guide
По мнению Копеча, пиксельная стилизация служит общей идее «упрощения» репрезентации жизненного пути человека, которая характерна для многих геймификационных систем. Геймификация в этом изводе подразумевает алгоритмизацию, выражающуюся за счёт введения людических методов — простых процедур и правил — которые сопровождаются людическими метафорами и атрибутами.
Корни именно такой конфигурации людического можно искать в истории развития электронных игр.
3. Идеология геймификации
В статье «Ludo’ед, или Субъект быстрого приготовления» [Ленкевич, 2016] Александр Ленкевич, участник петербургской Лаборатории Исследования Компьютерных Игр, сотрудник Центра медиафилософии СПбГУ, пишет, ссылаясь на своего коллегу Константина Очеретяного:
«Игра с середины XIX в. помогает обывателю привыкнуть к ритмам индустриального (а после и постиндустриального) мира: через ненавязчивое повторение простейших операций в игровых автоматах усваивается логика механизации и производства.» [Ленкевич, 2016, c. 354-355]
В том же тексте Ленкевич разворачивает теорию субъективности геймера как «доширак»-субъективности, полуфабриката, где интерактивные медиа служат площадкой для быстрых и эпизодических операций «мобилизации» и «демобилизации» субъекта в соответствии с логикой медиа. Многие описания геймификации, прежде всего критические, так же делают акцент на этой субъективирующей и дисциплинирующей функции. Копеч пишет:
«Геймифицированный человек — это человек с установленной в его голове программой. И геймификация — это программирование людей; таким образом, чтобы они вели себя в русле алгоритма.» [Kopeć, 2015, 24]
Ещё один яркий пример — приложение Habitica (бывш. HabitRPG), нацеленное на геймификацию ежедневных задач и привычек. Оно так же использует характерную пиксельную графику, а также множество людических метафор и методов: очки здоровья, предметы, «прокачку» персонажей, квесты.
«Каждый аспект HabitRPG пронизан людическими атрибутами. Визуальный материал предоставляет аллюзии на видеоигры. Это всё тот же цветастый пиксель-арт, напоминающий современные инди-игры и Life is a Game <…>» [Kopeć, 2015, 20]
Habitica
Связывая вышеописанное, можно сделать предположение: в ходе развития игровой индустрии сложился определённый комплекс атрибутов и операций, стойко ассоциирующийся с «игровыми» свойствами системы, в которых этот комплекс обнаруживается. Людоморфические акторы аппелируют к этому комплексу, чтобы «настроить» субъекта на специфически людический — оперативный и «податливый» — характер субъективации, описанный Александром Ленкевичем.
Чтобы точнее ответить на вопрос, как людоморфические акторы преобразуют систему, в которую внедряются — то есть, как они выполняют роль прибавочного элемента по Малевичу — стоит обратиться к понятию идеологии геймификации:
«<Людоморфы> применяются, чтобы сообщить пользователю, что он или она должен/должна сделать, чтобы изменить свои условия жизни, представленные внутри программного обеспечения. Интернализация такой идеологии, встроенной в ПО, понимается как момент, когда репрезентация, создаваемая ПО, замещает предыдущую репрезентацию, через которую определённый человек воспринимал свои условия жизни. В этот момент алгоритмическая логика геймифицированной системы синхронизируется с логикой самого человека.» [Kopeć, 2015, 14]
Идеология геймификации в трактовке Копеча заключается в сокрытии от субъекта логики деятельности, которую он выполняет, или его жизненных условий («living conditions») — и замены их на логику геймификационной системы. Мотивация и аффекты субъекта перестраиваются в соответствии с этой логикой. Так, в Habitica ежедневные рутинные действия реинтерпретируются как часть квестов, побед над монстрами, добывания трофеев — механик, характерных для видеоигрового жанра RPG (Role-Playing Game) с его типичными героическими коннотациями.
Таким же образом функционирует геймификация работы, наёмного труда. Алексей Салин в своей статье «К критике проекта геймификации» [Салин, 2015] указывает, как геймификация может работать как продолжение капиталистической идеологии в её менеджериальном изводе:
«Зачем расширять штаб и нанимать новых работников, если можно дать людям игру и они будут выполнять задания за „бейджи“ и „новые уровни“? Таким образом, оказывается, что капитализм способен из практик геймификации создать новый способ получения прибавочной стоимости, вначале освободив потоки нематериального производства и затем зарегистрировав их на теле капитала.» [Салин, 2015, 119].
Издержки и условия производящего труда уходят из поля внимания наёмного работника, уступая место людоморфам, призванным поместить субъекта в людический аффект, где «скучная работа» ощущается как «увлекательная игра».
Геймификация тут приобретает популярность прежде всего как менеджериальный инструмент, способ восполнить недостаток мотивации сотрудников:
«В результате использования геймификации с целью капитализации нематериального производства возникают новые техники мобилизации работников, которые Гаральд Вармелинк назвал игровым типом организации, представляющим собой сложный альянс менеджериальных и игровых практик.» [Салин, 2015, 119]
Здесь есть возможность визуально продемонстрировать распространение прибавочного элемента людического в корпоративной сфере.
На волне геймификационного тренда возникает ряд компаний, предоставляющих сервисы по корпоративной геймификации. В своих продуктах и рекламных материалах они используют уже знакомые нам людоморфы.
Слоган компании Pixentia — agile solutions for your workforce [pixentia.com]. Agile — это современная менеджериальная методология, позиционирующаяся как способ увеличения эффективности за счёт повышения организационной гибкости. Pixentia предоставляет другим компаниям услуги по «инновационной» реорганизации производственных и управленческих процессов.
Одна из услуг компании — геймификация. На странице, посвящённой геймификации, используется ряд иллюстраций. Мы рассмотрим их ниже.
Gamification for Corporate Learning, pixentia.com
Здесь используется стандартная для корпоративных иллюстраций простая векторная графика в сочетании с людоморфическими акторами: монетками, счётчиком монеток (справа вверху), счётчиком здоровья персонажа (слева вверху). Фон визуально отсылает к классической видеоигровой франшизе Super Mario Bros.
Ultimate Super Mario Bros.
В центре композиции — персонаж в офисном костюме, торжественно поднимающий в руках призовой кубок; подразумевается, что он испытывает радость от победы, имеющей игровой контекст. Мы столкнёмся с аналогичными образами, если наберём в поисковую строку Google запрос «happy employee corporate vector»:
Google.com, поисковой запрос «happy employee corporate vector»
Таким образом мы видим, как прибавочный элемент людического включается в жанр корпоративной иллюстрации; людические метафоры и атрибуты становятся частью типичных для этого жанра сюжетов. Персонажи этих сюжетов (например, «счастливый наёмный работник», «happy employee») изображаются как подверженные людическому аффекту (испытывающие радость от игры), но остающиеся при этом в своей производственной роли (наёмный работник в офисном костюме). Так визуально описывается результат геймификации как менеджериального приёма.
Совместимость людических атрибутов и корпоративной графики становится более возможной за счёт визуальной простоты и композиционной гибкости того и другого. Игровые интерфейсы состоят из простых компонентов электронной графики; корпоративные иллюстрации, как правило, так же композиционно составляются из простых объектов, выполняемых в графических редакторах.
Но, вероятно, не стоит сводить роль прибавочного элемента людического исключительно к его реализации в рамках дисциплинирующей логики менеджериального, «сетевого» капитализма.
Салин, рассматривая геймификацию и видеоигры в разрезе капиталистической идеологии, приходит к выводу:
«<…> альянс современного капитализма с видеоиграми может быть использован игроками против капитализма, поскольку интерактивные миры видеоигр всегда оставляют зазор для политического действия.» [Салин, 2015, 125]
Используя всё те же игровые формы (всё те же людоморфы), пользователи могут осуществлять акты «трансгрессивной игры» (transgressive play) — оставаясь в игре, но осуществляя в ней непредвиденные системой правил действия [Салин, 2015, 123]. Так «изнутри» геймифицированных систем открываются неожиданные формы интерактивности, нарушающие логику алгоритмической субъективации, практик контроля и коммодификации.
Салин приводит следующий случай: в Second Life, многопользовательской видеоигре с функционалом соцсети, открылись официальные виртуальные магазины Reebok, после чего внутриигровое сообщество «Second Life Liberation Army» в знак протеста уничтожило их с помощью ядерного оружия [Салин, 2015, 125].
«Если геймификация может быть как духом капитализма, так и его критикой, к геймификации необходимо отнестись критически.» [Салин, 2015, 126]
Но что может быть инструментом критического подхода к геймификации и людическому в целом — помимо аналитической критики существующих людифицированных систем и актов трансгрессивной игры?
Говоря о критической функции концептуального искусства в своей заметке Introductory Note to Art-Language by the American Editor, Джозеф Кошут пишет:
«Концептуальное искусство аннексирует функцию критика <…> <оно> избавляет от необходимости в посреднике.» [Kosuth, 1993]
В сфере современного искусства существуют примеры произведений, в концептуалистском стиле критически осмысляющих людическое — и его отношения с системами и пользователями. Среди этих примеров — «неигры», гейм-арт и так называемые «людические интерфейсы». Мы рассмотрим их в следующем разделе.
4. Гейм-арт и людические интерфейсы
Notgames, или «неигры» — тип концептуальных видеоигр, впервые предложенный независимым разработчиком Микаэлем Самином в его манифесте Not a manifesto [Samyn, 2010].
Неигры сознательно отказываются от определённых «игровых» компонентов видеоигр, таких как правила, агентность игрока и условия победы. Вместо этого, они экспериментируют с формами самого медиума видеоигр — стремясь рассматривать их как способ порождения определённых уникальных аффектов, свойственных этому медиуму.
Как концептуальные высказывания, неигры имеют перед собой задачу поставить под сомнения конвенциональные определения понятия «игра». Они были одним из видов реплик в спорах об онтологии видеоигр.
David O’Riley, Mountain
Известный пример неигры — Mountain за авторством Дэвида О’Рейли. При запуске генерируется случайная гора, «висящая в открытом космосе».
На горе появляются случайные предметы. Игрок может перемещать их или выкидывать. Гора «общается» с игроком, жалуется на жизнь, описывает своё состояние. Нажимая на кнопки, игрок может ускорять течение времени: день сменяется ночью, сезоны сменяют друг друга.
Процедурная генерация горы в совокупности со способности видеоигр к репликации на множестве цифровых платформ создаёт потенциально бесчисленное множество виртуальных гор.
Горы О’Рэйли могут «жить без игроков» — подобная идея лежит в основе многих неигр. Они делают высказывание о возможности, но необязательности агентности игрока.
Людическое здесь больше не является «хищным алгоритмом», стремящимся захватить пользователя в геймификационное рабство. Напротив, Гора как бы сообщает: «От тебя ничего не требуется, кроме как запустить программу. Ты можешь созерцать и бездействовать, если хочешь.»
Что делают неигры с людическим? Намеренно подрывая его основы, они в то же время радикально расширяют его, делают его «пористым» — используя выражение Геккера [Gekker, 2021, p. 77].
Это потенциально освобождает людическое от коннотаций, которые приписывает ему Копеч в своей критике геймификации: идеологическое «сокрытие» условий жизни, алгоритмическая дисциплина поведения пользователя, встроенность в коммодифицирующие практики капитализма.
Обнаруживаемую здесь иную, эмансипаторную сторону людического описывает Матьяс Фукс на примере того, что он называет «людическими интерфейсами» (ludic interfaces) [Fuchs, Russegger, Carbonell, 2013].
При дизайне людических интерфейсов главная цель — достижение свойства «игривости» (playfulness). Во многом это удаётся за счёт необычных форм интерактивности, подрывающих идеологию традиционных интерфейсов.
Тогда как традиционные (коммерческие) интерфейсы должны быть эффективны, универсально применимы, предсказуемы, глобально доступны и независимы от регионального или исторического контекста — людические интерфейсы игривы, наполнены коннотативностью и потенциалом удивить, собраны с осознанием регионального и исторического контекста, имеют критическое содержание и приглашают к со-творчеству; включают сгенерированный или управляемый пользователями контент [Fuchs, Russegger, Carbonell, 2013, p. 31-32].
Mary Flanagan: Giant Joystick. Ludic Interface installation 2006.
Один из примеров, приводимых Фуксом и соавторами статьи — гейм-арт-инсталляция Giant Joystick, представляющая собой девятифутовый джойстик, двигать который получается только всем телом. Джойстик подключён к аркадной видеоигре с простой пиксельной графикой.
Людоморфизм присутствует в самом внешнем виде джойстика, но к нему добавляется ряд необычных взаимодействий, который расширяет здесь содержание людического — например, вовлечение всего тела, кооперация с другими людьми, и, как пишут авторы статьи, «фаллическое напоминание» о неравном возобладании мужчин в игровой культуре.
Для Фукса важно, что людические интерфейсы всегда «игриво» предлагают те типы взаимодействия, которые вытеснены из идеологии традиционных интерфейсов, где определённые правила интерактивности принимаются за должное.
Матьяс Фукс включает игровой движок в процесс диджеинга через один из своих людических интерфейсов
Фукс и соавторы статьи также, как и Богост [Богост, 2015], и Геккер [Gekker, 2021], уделяют внимание невозможности дать чёткое определение, что такое «игровые свойства» или «игривость» (playfulness). Они предлагают свою оптику, где игровые свойства определяются в социо-историческом контексте.
Если поместить кубики LEGO в древнеегипетский храм, они не будут восприняты как игра (то есть, не сработает людоморфический актор в отсутствие необходимых ему культурно обусловленных коннотаций) [Fuchs, Russegger, Carbonell, 2013, p. 34-35].
«Возможно, нам придётся принести в жертву представление об исторически постоянной игривости (playfulness) и заменить её на множество игривостей (multitude of playfulnesses): спартанская игривость, римская или карфагенская игривость, средневековая игривость, модерная или постмодерная игривость, и сегодняшние игровые нравы.» [Fuchs, Russegger, Carbonell, 2013, p. 35]
Таким образом, произведения в области гейм-арта, неигры, людические интерфейсы — во многом направлены на то, чтобы сделать намеренный, рефлексивный вклад в формирование сегодняшнего людического, наделение его новыми коннотациями. Это значит также создание новых форм людоморфических акторов.
Как мы увидели из примеров выше — людоморфизмы, встречающиеся в современном искусстве, зачастую направлены на критику или подрыв тех людоморфизмов, что стали частью доминирующей идеологии людического.
При этом они используют уже существующие людоморфы, чтобы сохранять связь с современным комплексом людического и иметь возможность произвести это высказывание. Например, это элементы, ассоциирующиеся с типичной видеоигровой графикой или механиками (как в ПО для диджеинга от Фукса, где используется игровой движок и механика стрельбы из «звуковых пушек» — см. иллюстрацию выше), или атрибутами игровой культуры (как в работе Giant Joystick).
5. Выводы
Мы видим, что прибавочный элемент людического имеет множественное, исторически и регионально специфическое, постоянно обновляемое содержание. Эти обновления происходят во многом из-за намеренной рефлексивной, критической работы, направленной на людическое (т.е. на само понятие «игрового», «игры», «игривости») в сфере современного искусства или концептуального гейм-дизайна. Коммерческая разработка видеоигр и возникающие в её рамках инновации также делают здесь свой вклад. Получающиеся в итоге разнообразные «игро-подобные объекты» обеспечивают множественность людического.
Эффективность людоморфа определяется тем, насколько он способен, во-первых, убедить рецепиента, что он имеет дело с игрой; и во-вторых, вовлечь рецепиента в предлагаемые системой, в которую включён людоморф, формы интерактивности или поведения.
Также эффективность людоморфа обеспечивается его способностью обратиться к знакам, коннотациям и процедурам людического, актуальным для реципиента в данном социо-историческом контексте.
С точки зрения менеджериальной идеологии людификации, прибавочный элемент людического обещает принимающим его системам большую пластичность, и прежде всего — большую пластичность субъектов, агентность и аффекты которых эта система стремится обратить в свою пользу.
Однако, эта же пластичность несёт для систем потенциально непредсказуемые преобразования, где новообретённые людоморфические акторы начинают задавать свою собственную логику — при этом, возможно, вступая в альянсы уже с теми самыми субъектами, которых система стремилась дисциплинировать или коммодифицировать; открывая для них возможности трансгрессивной игры; помогая им в их целях эмансипации, критики или самодетерминации.
Эти новые неожиданные альянсы вполне могут привести к появлению новых людоморфов и людорморфизмов — а значит, и новых форм людического.
6. Источники



