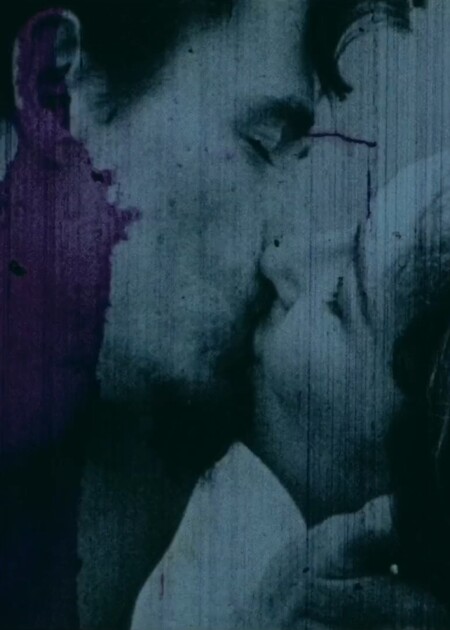
Личная документалистика: серия статей на HSE Media
С марта 2023 года я веду персональную рубрику на HSE Media, посвященную разнообразным практикам, стилям и методам в документальном кино. Первая тема, подробно освещенная в серии материалов, — развитие личной документалистики. В шести текстах я рассказываю о том, как, когда и почему сформировалась тенденция съемки фильмов о самом себе (1), о проблеме перформативности в документалистике (2), об автофикциональных стратегиях (3), о дневниковом кино (4), о создании фильмов о родных и близких (5), о судьбе личной документалистики в российском кинематографе (6).
I. Влечение к личному: об одной тенденции
«Можно с уверенностью сказать, что в XXI веке личные фильмы из маргиналии превратилась во флагмана экспериментальных тенденций документального кино, не утратив, впрочем, своей вызывающей неформатности. К революционному смешению за- и предкамерного пространства прибавляются другие проблемы. Прежде всего, такие работы невозможно четко разместить по одной стороне традиционного деления кино на игровое и документальное, так как оно и соблюдает, и подрывает канон обоих. Для игрового кино в таких фильмах слишком много непостановочной действительности — ситуаций, героев, переживаний. Для документального — слишком много личного, которое всегда можно (справедливо) заподозрить в вымысле. Зритель, идущий на подобную ленту в ожидании увидеть что-то документальное, может растеряться и разозлиться, если по старинке выводит из этого ожидания требование нейтральности / объективности / информативности. Вместо этого он увидит и услышит рассказ отдельно взятого человека о событиях и переживаниях его собственной жизни, чью подлинность (как кажется) никто не в силах проверить, ведь герой и режиссер — одно и то же лицо».

Кадр из фильма «Варда глазами Аньес» (2019, реж. Аньес Варда)
Полный текст статьи доступен по ссылке
II. В объективе я: режиссерская перформативность
«Любой режиссер, снимающий документальный фильм о самом себе, создает одновременно и фильм, и самого себя — кинематографический образ, который будет фигурировать в коммуникативном пространстве. Однако среди всех возможных качеств, что мы можем распознать в таком авторском портрете, есть основное, носящее наиболее явно перформативный характер. Человек, снимающий фильм, — режиссер. И, ровно как батлеровская женщина, он становится режиссером не заранее, а именно в ходе взаимодействия с кино. Потому неудивительно, что во многих случаях снять перформативный фильм — означает рассказать о себе как кинематографисте, застигнутом в процессе работы».
Кадр из фильма «Человек с камерой» (2016, реж. Керстен Джонсон)
Полный текст статьи доступен по ссылке
III. Автофикшн в документалистике
«В документальном кино о самом себе, как и в подобной литературе, черты вымысла и постановки могут обнаруживать себя с разной степенью явленности, превращаясь в сознательно выбранный режиссером прием. Случаи, где фикциональность затрагивает саму ситуацию съемки, подчас приводят зрителя в замешательство: остается ли здесь что-то от документального кино, можно ли утверждать, что у показанного все еще есть референт — нечто из внефильмического мира, из реальной жизни режиссера, о чем фильм пытается нам сообщить?
Подобные работы можно рассматривать как пример более выраженной автофикциональной стратегии. Их я предлагаю характеризовать как портрет состояния. Речь идет о случаях, где основное для фильма событие невозможно представить в кадре — оно либо не было снято, либо его невозможно заснять. Задача режиссера — придумать постановочную конструкцию, способную заместить эту лакуну. В таких фильмах документируется не событие, а именно процесс его переживания, что хорошо согласуется с утверждениями исследователей trauma studies (а подобные работы чаще всего связаны именно с травматическим опытом), предлагающих понимать саму травму процессуально».
Кадр из фильма «Новости из дома» (1976, реж. Шанталь Акерман)
Полный текст статьи доступен по ссылке
IV. Дневниковые практики в документальном кино
«Съемка кинодневника (film diary) — это именно практика, повседневная, более-менее регулярная, слегка хаотичная и в этом схожая с ведением традиционных текстовых дневников. От прочих личных кинематографических / литературных опытов дневник отличается в первую очередь тем, что его автор/ка не задается целью создать готовый продукт, когда-нибудь завершить начатое. Для него / нее, как пишет исследовательница этого направления Вероника Гафетулина, „дневниковая съемка становится неотъемлемой, почти рутинной частью жизни и, кажется, встает в один ряд с чисткой зубов или ежедневными прогулками“ [2]. Неважно, будешь ли ты снимать / писать каждый день, раз в неделю или нерегулярно, в зависимости от настроения, — в пределе твой дневник будет длиться столько, сколько и жизнь, противостоя любой другой форме завершенности».
Кадр из фильма «Кошачья колыбель» (1959, реж. Стэн Брэкедж)
Полный текст статьи доступен по ссылке
V. Антропология ближнего круга
Документалисты и правда часто снимают фильмы о близких людях — родителях, партнерах, друзьях — но всякий раз герой, которому следовало бы занять место объекта исследования, сопротивляется объективации, норовя стать соучастником съемочного процесса. Режиссеру — вольно или невольно — приходится отказываться от принятой в антропологических исследованиях дистанции, потому что уже имеющуюся в закадровом опыте близость с героем невозможно спрятать. На место субъект-объектных отношений приходит интерсубъективный опыт, а съемки фильма из наблюдения превращаются в практику взаимодействия. Приходится отказываться от лукавой нейтральности, но ангажированность, озабоченность вот этим конкретным человеком (а не представителем исследуемой группы) из недостатка становится преимуществом. Мы все еще имеем дело с антропологией, поскольку в фокусе съемки остаются отношения людей, но в условиях радикального сокращения дистанции и акценте на авторском переживании она превращается в антропологию ближнего круга.
Кадр из фильма «Бэкграунд» (2023, реж. Халед Абдулвахед)
Полный текст статьи доступен по ссылке
VI. Личная документалистика в России
«Если бы рассмотрение личной документалистики в отечественном кино ограничивалось только советским периодом, этот текст вышел бы очень кратким — лишь констатирующим ее отсутствие. Это вполне объяснимо. В СССР документальное кино в несравнимо большей степени, чем игровое, зависело от утвержденного государством производственно-тематического плана и рассматривалось властью как пропагандистский или просветительский ресурс. Представить себе, что режиссер в подобных условиях может подать заявку на создание фильма, скажем, о травмирующих отношениях с матерью и всерьез рассчитывать на положительный исход, попросту невозможно.
Больше того: в советском контексте человек (любой, не обязательно сам режиссер) во всей его индивидуальной сложности и противоречивости на документальные экраны попадал нечасто вплоть до перестройки (даже в благоприятствующие такому присутствию оттепельные времена), в большинстве случаев включаясь в фильм на правах элемента, подчиненного куда более масштабному и амбициозному нарративу».
Кадр из фильма «Как спасти мертвого друга» (2022, реж. Маруся Сыроечковская)
Полный текст статьи доступен по ссылке



