
Эволюция гендерных стереотипов в рекламе (1950-е — 2020-е гг.)
Содержание
Введение
1. Концепция исследования 2. 1950-е: Патриархальный универсум и консолидация взгляда 3. 1960-1970-е: Трещины в зеркале: вызов и контр-нарративы 4. 1980-1990-е: Гипербола и кризис: суперженщина и «новый» мужчина 5. 2000-е: Ирония и метросексуальность: дистанция по отношению к стереотипу 6. 2010-2020-е: Эра деконструкции: между инклюзивностью и новыми мифами 7. Заключение
Библиография Источники изображений
Введение
Реклама давно перестала быть просто инструментом продаж. Она превратилась в мощный культурный текст, своего рода визуальную летопись эпохи, которая с пугающей точностью фиксирует не только моду на товары, но и господствующие в обществе представления о норме.

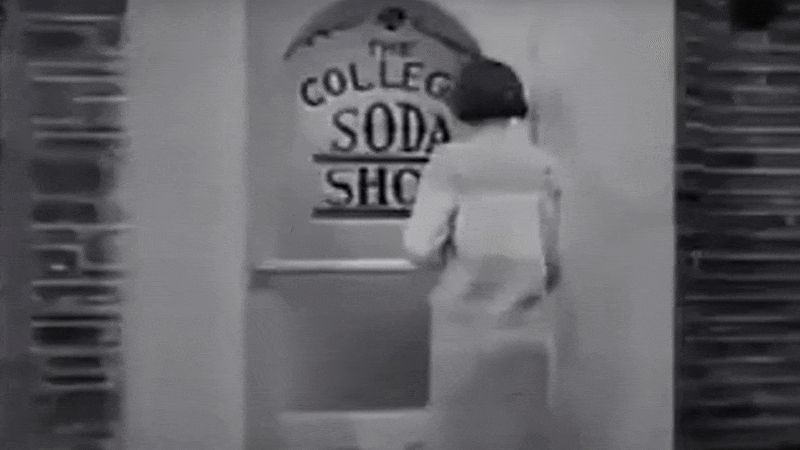
Реклама зубной пасты Colgate и мыла Camay конца 1950-х: когда женственность сводилась к безупречной улыбке и бархатной коже, представляя женщину прежде всего объектом восхищения.
Одной из самых устойчивых и в то же время претерпевающих значительные изменения систем таких представлений являются гендерные стереотипы. Именно они на протяжении десятилетий определяли, какими мы должны быть: что прилично и что неприлично для мужчины и женщины, как им выглядеть, о чем мечтать и как строить свою жизнь. Данное визуальное исследование предпринимает попытку проследить сложный и нелинейный путь трансформации этих стереотипов на материале рекламы, начиная с консервативного мира 1950-х годов и заканчивая реальностью 2020-х.
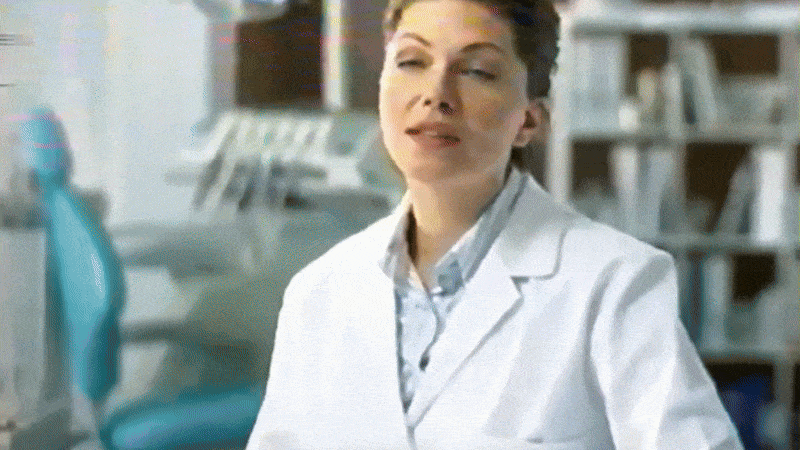

В 1997 году Colgate показывает женщину как профессионала. Camay в 2010-м демонстрирует женственность, которая становится предметом личного переживания.
Концепция исследования
Цель этого исследования — выявить и проанализировать ключевые визуальные и нарративные стратегии, с помощью которых реклама сначала создавала и закрепляла гендерные роли, затем начала их расшатывать под давлением социальных изменений и, наконец, как она пытается ориентироваться в современном мире, где сама концепция гендера стала предметом ожесточенных публичных дебатов.
В рекламе косметических брендов 1950-х / 1980-х годов женщина являлась основным и единственно возможным образом-адресатом.
Кампания косметического бренда 2025 г. демонстрирует нормализацию мужского образа в сфере косметики.
Исследование ставит перед собой задачу не просто хронологически выстроить сменяющие друг друга образы, но и вскрыть их подтекст, показать, как через позы, жесты, окружающую обстановку и цветовые решения конструируются определенные модели маскулинности и фемининности.
Понимание эволюции рекламных образов — это ключ к пониманию эволюции нашего собственного сознания.
Мы часто не отдаем себе отчета, насколько глубоко в нас сидят визуальные коды, усвоенные с детства из рекламных роликов и плакатов. Осознание того, что эти коды не являются естественными или данными свыше, а были кем-то сконструированы с конкретной целью, позволяет по-новому взглянуть на современные дискуссии о гендере.
Реклама 1950-х гг., где закреплялся стереотип о женщине как о домохозяйке.
В рекламе 2010-х образ мужчины на кухне/в быту становится частым явлением, он изображается как гастрономический экспериментатор или романтик.
Методологический фундамент работы покоится на двух столпах.
Первый — это теория взгляда, применимая к анализу статичного изображения. Мы исследуем, как реклама структурирует отношения между зрителем и объектом взгляда, конструируя женское тело как пассивный объект для потребления и мужскую фигуру как активного субъекта действия.
Второй столп — социологическая концепция социального конструирования реальности, позволяющая интерпретировать рекламу как институционализированный символический универсум, легитимирующий определенные гендерные роли и маргинализирующий иные.
Актуальность данного исследования проистекает из насущной необходимости проблематизировать, казалось бы, самоочевидный визуальный опыт, окружающий нас. Понять, как конструировался гендер вчера, — значит обрести инструмент для критического осмысления того, как он конструируется сегодня, в эпоху, когда старые бинарности рушатся, а новые лишь обретают свои, не менее спорные, очертания.
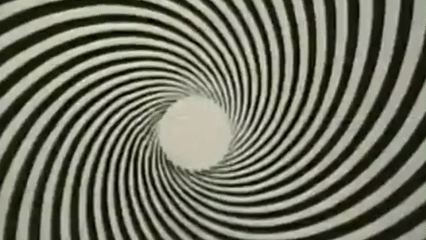

Реклама косметических брендов 1960 г. / 2025 г.
Принцип отбора материала для визуального ряда строится на сочетании хронологического, тематического и сравнительно-географического подходов. Хронология позволяет выделить ключевые этапы, соответствующие волнам феминизма, сексуальной революции, кризиса маскулинности и цифровой трансформации. Внутри каждого временного периода отбираются не просто яркие, а репрезентативные образцы, которые демонстрируют доминирующую визуальную стратегию эпохи. Это рекламные плакаты, журнальные развороты, ставшие культурными артефактами. Географический принцип предполагает сравнение материалов из США как эпицентра глобальной потребительской культуры, СССР/России как примера особого пути с моделью «работающей матери», Японии с ее устойчивыми традиционными нормами и других. Такой отбор позволяет избежать унификации и показать, как глобальные тенденции преломляются в локальных контекстах.
Принцип рубрикации и структурирования исследования подчинен логике диалектического развития. Работа делится на пять основных разделов, каждый из которых представляет собой не просто десятилетие, а качественный этап в эволюции гендерного дискурса.
Ключевой вопрос исследования:
Каким образом рекламный дискурс, функционируя как технология формирования субъективности, осуществлял символическую работу по легитимации, последующей проблематизации и, наконец, рекомбинации гендерных стереотипов на протяжении исследуемого периода, и какие визуальные и нарративные стратегии использовались для поддержания иллюзии естественности конструируемых им идентичностей в условиях радикальных социальных трансформаций.
Японская реклама 1960-е гг. / 1980-е гг. / 1990-ее гг. / 2025 г.
Гипотеза исследования состоит в том, что эволюция гендерной репрезентации в рекламе не является линейным движением от «закрепощения» к «освобождению»:
Это диалектический процесс, в котором каждый последующий этап не отменяет предыдущий, но вступает с ним в сложные отношения отрицания и заимствования. Работа предполагает, что современная «инклюзивная» реклама, декларативно отвергая стереотипы прошлого, зачастую не упраздняет саму логику стереотипизации, а лишь производит новые, более изощренные и адаптированные к текущему культурному моменту формы нормативности. Происходит переход от явного диктата к мягкому управлению через визуальные коды, предлагающие новые, но столь же обязательные для исполнения модели «успешной» и «прогрессивной» идентичности.
1950-е: Патриархальный универсум и консолидация взгляда
Типичный сюжет автомобильной рекламы 1950-х: женщина в роли пассажирки-аксессуара, чье изящество подчеркивает статус мужчины-водителя, для которого открытие двери — часть ритуала галантности.
Эпоха 1950-х годов представляет собой апогей визуального закрепления патриархального канона, где реклама функционировала как дисциплинарный механизм, не оставляющий пространства для альтернативных сценариев.
Улыбка как доминантный визуальный элемент в рекламе 1950-х.
Визуальный ряд этого периода выстраивается вокруг тотальной дихотомии: женское начало жестко привязано к сфере приватного, домашнего очага, тогда как мужское олицетворяет публичное пространство труда и досуга. Анализ американской и западноевропейской рекламы бытовой техники, моющих средств и продуктов питания демонстрирует конституирование архетипа «счастливой домохозяйки».
Её образ — это всегда улыбка, идеальная прическа и фартук, а её взгляд, если он и обращен к зрителю, выражает не вызов, а ожидание одобрения.
Женщина здесь является безусловным объектом взгляда — мужчины-супруга, детей и, в конечном счете, общества, оценивающего ее успешность через кристальную чистоту дома. Даже в рекламе сигарет или автомобилей, где женщина номинально присутствует, ее роль сводится к пассивному аксессуару, подчеркивающему статус и маскулинность мужчины-потребителя.
Сопровождая мужчину, женщина в рекламных образах 1950-х демонстрирует жесты, которые подчеркивают ее вспомогательную роль.
В советской версии этого универсума, при всей риторике равноправия, визуальные коды были поразительно схожи: плакаты прославляли «женщину-труженицу», но неизменно добавляли к этому образ «счастливой матери», визуально локализуя ее в пространстве семьи.
Бытовая техника в рекламе 1950-х визуально закреплялась как исключительная зона ответственности женщины.
Таким образом, 1950-е стали десятилетием консолидации нормативного взгляда, где реклама производила не просто товары, а саму реальность, в которой биологический пол неумолимо предопределял социальную судьбу.
Образ стиляги-мужчины в рекламе 1950-х часто дополняется фигурой женщины, устремляющейся ему на помощь.
1960-1970-е: Трещины в зеркале: вызов и контр-нарративы
Социальные бури 1960-х и 1970-х годов — сексуальная революция, вторая волна феминизма, движение за гражданские права — не могли не вызвать первых глубоких трещин в монолитной поверхности рекламного зеркала. Визуальный дискурс этого периода характеризуется нарастающим напряжением между инерцией патриархальной традиции и зарождающимися контр-нарративами.
Притягивающий взгляд образ женщины как маркетинговая стратегия в рекламе 1960-70-х. гг.
С одной стороны, реклама начинает эксплуатировать образ сексуально раскрепощенной женщины. Однако, как справедливо отмечали феминистские критики, эта «свобода» часто оказывалась новой формой закабаления, сводясь к объективации женского тела, теперь поданной не как добродетельная скромность, а как смелый эротический вызов.
Образ неловкой кокетки в рекламе 1970-х. гг.
С другой стороны, появляются первые робкие попытки визуализировать новую субъектность: женщина в деловом костюме, пусть и гипер-феминизированном, за рулем автомобиля не как аксессуара, а как средства передвижения. В Японии возникает феномен «офисной леди», который, несмотря на подчиненный статус, все же вводит женщину в публичную корпоративную среду.
Феминизированный костюм как визуальный маркер интеграции женщины в корпоративную культуру.
Рекламный образ перестает быть самоочевидным, в него привносится доля амбивалентности.
Маскулинность также подвергается пересмотру — в нишевой рекламе мужское тело впервые начинает выставляться как объект желания, подрывая классическую схему «активный мужской взгляд — пассивный женский объект».
Это эпоха, когда реклама, все еще воспроизводя старые коды, уже начинает оглядываться на них с сомнением.
Появляется минималистичная фотореклама, которая использует лаконичные композиции и акцент на продукте.
1980-1990-е: Гипербола и кризис: суперженщина и «новый» мужчина
Эпоха потребления 1980-1990-х годов породила не разрешение гендерного напряжения, а его гиперболизацию. Визуальный дискурс реагирует на феминистский вызов не отказом от стереотипов, но их усложнением и нагромождением.
Архетип маскулинности: сильный, статный, волевой мужчина как доминирующий субъект.
На смену «счастливой домохозяйке» приходит миф о «суперженщине», которая должна в идеальной пропорции сочетать карьерный успех, сексуальную привлекательность и материнскую нежность.
Рекламные образы, будь то в кампаниях духов или деловой одежды, транслируют сообщение о тотальной успешности, возводя ее в новый, не менее требовательный норматив. Эта визуальная стратегия, по сути, становилась инструментом снятия социального протеста: система инкорпорировала требование равноправия, превратив его в новую, еще более изнурительную модель для подражания.
Прямая поза и уверенный взгляд как атрибуты нового сильного женского образа в рекламе 1980-х.
Параллельно с этим происходит кризис традиционной маскулинности, вызванный деиндустриализацией и ростом сферы услуг. В ответ реклама конструирует фигуру «нового мужчины». Он, как показывают рекламные ролики детских подгузников или бытовой химии, вовлечен в отцовство и домашние дела. Однако его вовлеченность часто изображается как неловкая, комичная или временная, тем самым смягчая потенциальную угрозу для устоев патриархата.
Феномен «нового мужчины»: ухоженность или яркий стиль как атрибуты современной маскулинности.
В постсоветской России 1990-х этот процесс принял карикатурные формы: гипермаскулинный образ «нового русского» сочетался с образом «роковой женщины», чья сила заключалась исключительно в манипулятивной сексуальности.
Этот этап характеризуется не преодолением, а усложнением и коммодификацией гендерных противоречий.
Легкость и раскрепощенность как визуальные коды женственности.
2000-е: Ирония и метросексуальность: дистанция по отношению к стереотипу
Кампания Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like» («Мужчина, которым мог бы пахнуть твой мужчина»), 2009 г.
На рубеже тысячелетий рекламный дискурс нашел остроумный выход из тупика гиперболизированных и уже не работающих стереотипов — иронию. Стратегия этого периода заключается в установлении дистанции по отношению к устоявшимся образам через их пародийное обыгрывание и деконструкцию.
Кампания Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like» («Мужчина, которым мог бы пахнуть твой мужчина»), 2009 г.
Ярчайшим примером является кампания Old Spice «The Man Your Man Could Smell Like» («Мужчина, которым мог бы пахнуть твой мужчина»), где классический образ гегемонной маскулинности доводится до такого абсурда, что он саморазрушается, обнажая свою искусственность. Бренд говорит со зрителем на языке старых стереотипов, но подмигивает ему, приглашая разделить знание об их условности.
В этом же ключе работает и кампания Dove «Dove Real Beauty» («Настоящая красота»), которая, хотя и не была ироничной, сознательно дистанцировалась от глянцевых канонов, профанируя сакральные для индустрии идеалы красоты.
Кампания Dove «Dove Real Beauty» («Настоящая красота»), 2004 г.
Кампания Dove «Dove Real Beauty» («Настоящая красота»), 2004 г.
Феномен метросексуальности, популяризированный в это десятилетие, стал логическим завершением этой тенденции: мужская забота о внешности, ранее маргинальная, была легитимирована и превращена в новый рынок.
Однако, ирония — опасный инструмент.
Она позволяет воспроизводить стереотип, снимая с автора ответственность за его пропаганду. Потребитель наслаждается образом, но сам образ при этом продолжает циркулировать в культурном поле, и его разрушительный потенциал никуда не исчезает. Реклама 2000-х научилась быть умной, но не обязательно честной.
2010-2020-е: Эра деконструкции: между инклюзивностью и новыми мифами
Современная реклама строит образы на принципах инклюзивности, свободы самовыражения и концептуальной целостности.
Современный этап, определяемый влиянием различных движений и ростом запроса на социальную справедливость, ознаменовался переходом от иронии к прямой деконструкции.
Сильная женщина — новый норматив.
Визуальный язык рекламы стал полем битвы за репрезентацию: бренды массово начали включать в кампании модели разных рас, размеров, возрастов, гендерных идентичностей и людей с инвалидностью. Такие инициативы, как гендерно-нейтральные детские коллекции от скандинавских брендов или провокационные кампании Gillette, критикующие «токсичную маскулинность», наглядное тому свидетельство.
Мужчина как целевая аудитория косметики — нормализованный тренд.
Однако именно здесь проявляется центральное противоречие эпохи. Прогрессивная риторика зачастую оборачивается тонкой формой коммодификации — превращения социального протеста в рыночный тренд.
Бренд, декларирующий инклюзивность, продает не просто товар, а причастность к «правильной» стороне истории, создавая новый тип нормативного давления — быть «достаточно прогрессивным».
Таким образом, на смену старому, явному диктату стереотипов приходит новый, более гибкий механизм власти. Он не запрещает, а поощряет определенные формы идентичности, маркируя их как социально одобряемые.
Реклама 2020-х годов оказывается в двойственном положении: с одной стороны, она стала пространством для видимости маргинализированных групп, что является безусловным достижением. С другой стороны, она рискует создать новый набор мифологий, где сложность человеческой идентичности упаковывается в удобные для маркетинга категории, а подлинная борьба подменяется эстетикой разнообразия, которую можно купить.
Деконструкция гендерных стереотипов как основной тренд современной рекламы.
Заключение
Данное визуальное исследование позволяет дать развернутый ответ на ключевой вопрос о том, каким образом рекламный дискурс осуществлял символическую работу по легитимации и трансформации гендерных стереотипов. Анализ показал, что реклама функционировала не как пассивное зеркало, но как активный и диалектический участник социальных процессов.
Выдвинутая в начале работы гипотеза находит свое полное подтверждение. Действительно, эволюция гендерной репрезентации в рекламе не была движением от «закрепощения» к «освобождению». Это был сложный, нелинейный процесс, в котором каждый последующий этап содержал в себе следы предыдущего.
Современная «инклюзивная» реклама, при всей ее внешней прогрессивности, далеко не всегда упраздняет саму логику стереотипизации. Как показал анализ, она зачастую просто производит новые формы нормативности, более изощренные и адаптированные к текущему культурному моменту.
Сквозь призму рекламы мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в механизмах социального контроля: от дисциплинарной власти, предписывающей четкие нормы, к власти, основанной на соблазне и поощрении «правильных» форм идентичности.
Современная реклама, декларативно отказавшись от грубых гендерных стереотипов прошлого, создала новый миф — миф о тотальной свободе самовыражения, который на поверку оказывается столь же нормативным, ибо подменяет подлинное разнообразие человеческих идентичностей каталогом маркетинговых образов, где даже бунт становится формой конформизма, а право быть собой — очередным потребительским долгом.
Бергер Дж. «Искусство видеть» https://djvu.online/file/VTZ5uDyYDLUiv
Бодрийяр Ж. «Общество потребления. Его мифы и структуры» https://gtmarket.ru/library/basis/3464
Барт Р. «Мифологии» https://djvu.online/file/09nebZjvLCX1V
Батлер Дж. «Гендерное беспокойство» https://garagemca.org/programs/library/catalogue/L50202
Малви Л. «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф» https://www.hse.ru/data/2019/03/18/1198342643/Laura_Malvi.pdf
https://soviet-life.livejournal.com/1995053.html (дата обращения: 18.11.2025)
https://www.pinterest.com/ideas/1950s-advertising-retro-ads/894292575128/ (дата обращения: 18.11.2025)
https://www.gettyimages.com/photos/1950s-advertising (дата обращения: 18.11.2025)
https://ru.pinterest.com/psnell17/1960s-advertising/ (дата обращения: 18.11.2025)
https://www.pinterest.com/magnolia0929/1970s-ads/ (дата обращения: 18.11.2025)
https://www.pinterest.com/magnolia0929/1980s-ads/ (дата обращения: 18.11.2025)
https://ru.pinterest.com/ideas/реклама-90х/945349332129/ (дата обращения: 18.11.2025)
https://ru.pinterest.com/ideas/2000-advertisements/901488913171/ (дата обращения: 18.11.2025)
Источник видео: https://vkvideo.ru/ (дата обращения: 18.11.2025)
Источник видео: https://rutube.ru/ (дата обращения: 18.11.2025)
Все использованные изображения и видео взяты из открытых источников и находятся в свободном доступе.



