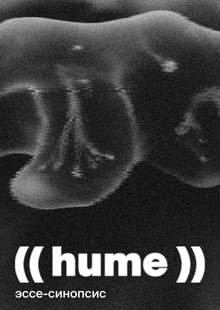Нигредо. Хаотектура
Введение
«Я говорю вам: нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду», — так говорил Заратустра у Ницше [5], размыкая для нас парадоксальную природу творческого процесса, переводящего потенциальное в актуальное, где хаос — не столь беспорядок, сколь особое состояние интенсивности, которое предшествует любому порядку и делает его возможным. Это не деструктивная, а генеративная сила, противостоящая не космосу, а космической усталости — тому окостенению живого, которое Фридрих фон Царатуштра видит в фигуре «последнего человека»: последний не смотрит, а «моргает» — реагирует, но не участвует; отвечает, но не вопрошает; существует, но не присутствует, не любит, не вовлекается — не восвояси, но вчуже.
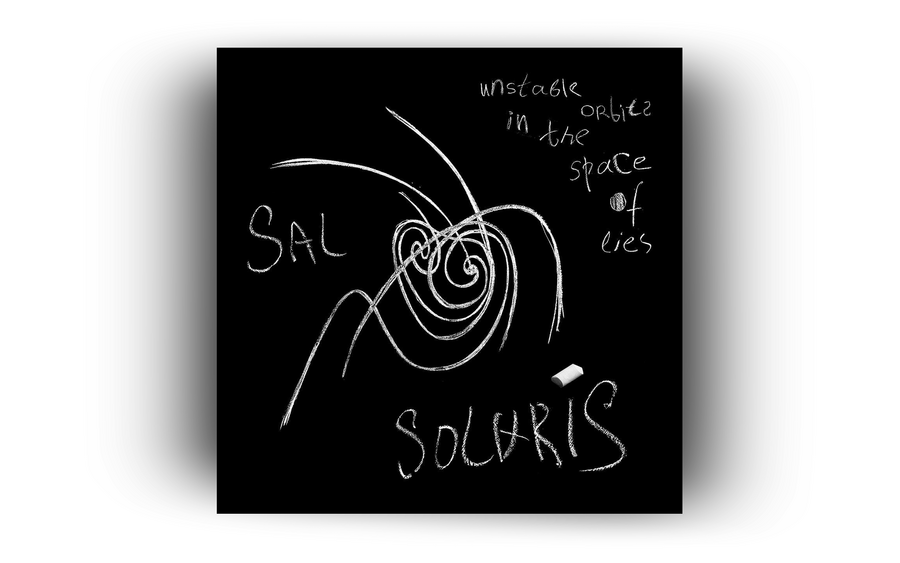
Иван Напреенко, Евгения Белякова Обложка альбома Unstable Orbits in the Space of Lies проекта Sal Solaris 2017
Почему же вчуже? Вот почему. Танцующая звезда рождается в Великий полдень — в точке максимальной интенсивности, когда тени исчезают, и вещи обнажаются. Это, тем не менее, не значит, что они становятся понятнее, отдавая себя нашей власти, — напротив, именно сейчас, в ослепительном мраке Полудня, проявляется их радикальная странность, fundamentale Unheimlichkeit: мы видим, что вещи неприрученного мира не принадлежат ни нам, ни кому-либо из тех, кого мы можем вспомнить и назвать. Они не наши, а чужие — принадлежат Чужому. Даже когда мы говорим, что мир — не чей-либо, но Божий, то и это есть неправомерное присвоение: ведь стоит нам назвать Владельца Всяческих словом «Бог» и занести Его в словарь (чтобы, например, знать, с Кого взимать, ежели придётся, налог на имущество), сейчас же Означаемый-но-не-Означенный соскальзывает с испещрённых вопросительными знаками полей и растворяется во мгле неупомянутого в нашем словаре — в той тьме, что предшествует всякому слову и делает возможным само говорение.
Теория и практика хаоса
В 1961 году Эдвард Лоренц открывает «эффект бабочки». В 1963 году выходит его ключевая статья о детерминированном непериодическом потоке. В 1975 году Джеймс Йорк вводит термин «хаос» в научный оборот. В 1977 году публикуются работы Бенуа Мандельброта о фракталах.
Параллельно с научной теорией хаоса, причём, строго говоря, независимо от неё, в 1970-е годы в Англии возникает так называемая хаос-магия: Liber Null, первая книга Питера Кэрролла [10], была опубликована в 1978 году (хотя техника сигилизации художника Остина Османа Спейра, которую активно используют хаос-маги, была разработана ещё в 1910-х годах, а идея работы с хаосом как с со-автором и со-актором присутствует в различных магических традициях с древности).
Хаосизм можно назвать «оккультным постмодернизмом» (или, наоборот, «постмодернистским оккультизмом») [2, 12]. Он фундаментально эклектичен, так как характеризуется отказом от любых форм догматизма и акцентом на индивидуальном опыте: каждый маг свободен выбирать свои методы и символические системы, что делает практику легко кастомизируемой. Можно по случаю выдумывать богов и демонов и тут же к ним обращаться, можно заимствовать техники из шаманизма или любых иных мистических систем Востока, Запада, Юга или Севера, научной фантастики, массовой культуры, мифов Ктулху, — словом, откуда угодно.
Британский биолог и писатель Руперт Шелдрейк предложил концепцию морфического резонанса, которая предпологает существование «морфогенетических полей», организующих поведение живых систем [9]; Карл Густав Юнг тут, вероятно, заговорил бы о «синхронистичности». Технически, одновременность возникновения научной теории хаоса и магических практик, основанных на работе с хаосом, вероятно, была обусловлена культурно-эпистемологическим контекстом: в 1960–70-е годы происходит кризис механистической картины мира; обнаруживается, что даже простые детерминированные системы могут вести себя непредсказуемо; в умах растёт интерес к нелинейности, случайности, непредсказуемости — и, в конечном счёте, вызревает понимание хаоса как некоей животворящей силы.
Как теория хаоса, так и магия хаоса работают с нелинейными системами, где небольшие изменения могут приводить к значительным последствиям. Оба направления исследуют аттракторы — состояния системы, к которым она стремится, а также бифуркации — точки, в которых система может «ветвиться», и, пожалуй, можно сказать, что в обоих случаях используются фрактальные структуры.
Нарисуем — будем жить
Одним из популярных методов является так называемая алфавитная сигилизация (или, как это называл Спейр, работа с «разумными буквами»).
«Чтобы изготовить такой сигил, пишут предложение, как можно более короткое и близкое к смыслу сокровенного желания. Затем все повторяющиеся буквы вычёркивают, а оставшиеся складывают так, чтобы получилось нечто вроде монограммы. Таким образом, получается сигил. Затем маг пристально смотрит на этот сигил и позволяет ему погрузиться в свое подсознание, а затем (насколько это возможно) он должен забыть первоначальное желание и оставить сигил в подсознании, не вмешиваясь в его работу, направленную на исполнение желания» [3].
Сигилы из гримуара «Малый ключ Соломона»
Процесс создания сигила — это буквально перевод вербального в визуальное, причём такой перевод, который делает исходное сообщение нечитаемым. Это своего рода деконструкция языка, где буквы теряют семиотическую функцию и становятся визуальными агентами нелинейной динамики смыслов — так же, как, например, у Дэвида Карсона, подвергавшего текст радикальной визуальной трансформации, которая переводила коммуникацию на невербальный, интуитивный или эмоциональный уровень — через разрушение конвенциональных связей между означающим и означаемым. В книге The End of Print он пишет: «Не путайте удобочитаемость и комуникацию. Просто потому, что если что-то написано разборчиво, это не значит, что оно сообщает и, что более важно, не означает, что оно сообщает правильно» и даже «Никогда не допускайте удобочитаемости сообщения» [11].
Дэвид Карсон
Графические объекты, которые выглядят как буквы (но буквами, вообще говоря, переставшие быть), у Карсона действуют как акторы в нелинейной системе; глядя на отдельные элементы, невозможно предугадать, какие возникнут эмергентные эффекты от их соединения. Так типографическая композиция становится «праздником непослушания» — или, иначе, «временной зоной автономии» [6] — полем турбулентности, где смыслы не передаются, а возникают сами — до тех пока их за этим занятием не застигнет контролирующий агент. Таким контролёром мог бы быть дизайнер, если бы только Карсон не отказывался сознательно от этой роли.
Нечего и говорить, что, рассказывая о своих профессиональных ценностях, Карсон в первую очередь подчёркивал необходимость личной свободы и индвидуации: «В вашей работе вы должны использовать то, кем вы являетесь. Никто другой не сможет этого сделать, никто не сможет использовать ваш опыт, полученный от ваших родителей, воспитания, всего жизненного опыта».
Карсона называют «отцом гранж-типографики»; вероятно, это справедливо, потому что его карьера развивалась одновременно с музыкальным стилем grunge (рост популярности которого в 90-е чуть было не уничтожил metal-сцену; ситуацию спасли, в основном, американский death metal и скандинавский black metal). Мы только что объяснили, почему нам кажется, что Карсон скорее достоин звания «типографического хаос-мага» или, скажем, «дезинформационного хаотектора».
Деконструкция и остранение
Тут кажется уместным упомянуть архитектурный деконструктивизм, который работает с визуальной риторикой катастрофы: наклонные стены и колонны, «разорванные» объёмы, агрессивные углы, нарушенная тектоника — всё это создаёт эстетику разрушения и коллапса, но работает как весьма точная критика модернистского функционализма и его базовых постулатов, прежде всего корбюзианской идеологемы «машины для жилья» — через доведение до абсурда её основных принципов.
Питер Айзенман. Дом VI (Дом Фрэнка) Корнуолл, Коннектикут, 1972–1975
Архитектор и теоретик Питер Айзенман подчёркивает, что архитектура отнюдь не обязана служить исключительно человеческим нуждам. В его работах прослеживается идея о том, что здания обладают собственной агентностью и даже квази-субъектностью — и даже могут «общаться» друг с другом поверх голов своих обитателей. Его «Дом VI» (он же «Дом Фрэнка», Корнуолл, Коннектикут, 1972–1975) разделён пополам широкой щелью, которая проходит точно посередине кровати будущего жильца [14]. Айзенман объясняет: «Быт заказчика мне абсолютно не интересен, он не имеет никакого отношения к архитектуре». «Дом VI» не просто «неудобен для жизни» — он как будто отказывается быть определённым через витрувианскую систему отношений firmitas, utilitas и venustas (прочности, пользы и красоты). Эта позиция, конечно же, напоминает нам о Грэме Хармане, утверждающем, что объекты всегда превосходят сумму своих отношений с другими объектами, включая отношения с людьми. Но тут необходимо уточнение.
Соблазн связать архитектуру Айзенмана с объектно-ориентированной онтологией велик, но важнее тут то, что его проект глубоко укоренён в деконструкции Деррида — и это не просто стилистическое совпадение, а принципиальная философская позиция. Деконструкция работает с différance, с постоянным откладыванием и различанием смысла. У Айзенмана это выражается в архитектуре, ускользающей от интерпретаций и тем самым проблематизирующей саму идею архитектурного присутствия.
Young & Ayata Гугенхайм, Хельсинки 2014
Один из теоретиков, разрабатывающих применение ООО в архитектуре целенаправленно, — Мануэль Деланда, и его подход (называемый теорией ассамбляжей) иной: здесь архитектурные объекты не столько деконструируют значения, сколько утверждают свою автономную нечеловеческую реальность, свою Unheimlichkeit [1]. И это ближе к остранению по Шкловскому, чем к дерридеанской игре различаний. Ещё один автор, которого тут имеет смысл вспомнить, — Майкл Янг [15], внедрявший необычные объекты в привычную среду, что заставляло её проявить свою инаковость. Внедрённый объект становился чем-то что-то вроде «онтологического вируса», инфицирующего не только дискурсивные поля, но и саму ткань реальности. Похожим образом когда-то дюшановские редимейды (например, писсуар, произвольно назначенный арт-объектом под названием «Фонтан») ставили под вопрос искусство как таковое и, в частности, его музеификацию.
Питер Айзенман Дом IV Фоллс Виллидж, Коннектикут 1971
Питер Айзенман Дом IV Концептуальные эскизы 1971
И всё же. Другая работа Айзенмана — «Дом IV» (Фоллс Виллидж, Коннектикут, 1971) — пожалуй, пригодна для того, чтобы взять её в объектно-ориентированную рамку. Этот проект — система, где архитектурные элементы действуют как автономные акторы: заданный набор базовых форм (кубический объём, вертикальные плоскости, пространственная сетка) взаимодействует согласно определённым правилам (сдвиг, поворот, сжатие, расширение), порождая объект, который, по выражению самого архитектора, «проектировал сам себя» [13]. Собственно говоря, это и есть проповедуемая нами анарх-акторная композиция в чистом виде — метод, где элементы обладают собственной агентностью, а роль автора сводится к созданию условий для их самоорганизации.
Впрочем, деконструктивистская ирония чаще парадоксальна: здания, визуально коммуницирующие непригодность для обитания, тем не менее технически оказываются превосходно спроектированными, а их внутренние пространства — вполне комфортными. «Катастрофичность» здесь работает как визуальная метафора и жест, направленный против тоталитарных аспектов архитектуры модернизма.
У Карсона мы видим ту же работу с нарушением конвенций, схожую эстетику «контролируемого хаоса», визуальную деконструкцию базовых элементов композиционного и типографического языков и, в конечном счёте, критику «международного стиля» ad absurdum. Границы, которые, будем откровенны, так и не не дерзнули пересечь Вольфганг Вайнгарт и другие «швейцарские панки», Дэвид Карсон просто стёр ластиком.
Любишь — отпусти
Вернёмся к хаос-магии, где особенно важен наступающий после активации сигила этап «забывания». Это не просто абсурдная попытка «не думать о о белой обезьяне», но активная практика погружения в «гнозис» — этим словом тут называют особое состояние сознания, когда индивидульное намерение мага как бы растворяется в безличном потоке интенсивности, а сигил как бы проваливается в себя, в свою автономию, в свою ноуменальную реальность. Жорж Батай назвал бы это трансгрессией, а мы назовём кенотическим самоотводом.
Возможны различные техники достижения такого самоопустошения: физическое истощение, сенсорная перегрузка или, наоборот, депривация, медитативные практики, работа с психоактивными веществами и так далее. «Забывание» значения сигила — это создание «Ничто само-ничтожащего» (Хайдеггер) — продуктивной пустоты, о которой мы говорили в главе о «чёрной пене»: сигил должен стать «пузырьком небытия», чтобы начать действовать.
Олег Пащенко Авторский сигил (значение, разумеется, забыто) 2025
Когда мы говорим об автономии акторов в композиции, мы фактически имеем в виду похожий феномен: элемент, введённый в бой с определённым намерением, начинает «жить своей жизнью», вступая в непредсказуемые взаимодействия с другими элементами. Именно так проявлется нелинейность любой сложной системы. Сигил в практике Спейра функционирует как то, что Делёз и Гваттари назвали бы «машиной желания» — автономной системой производства эффектов, которая не просто исполняет первоначальное намерение создателя, а действует согласно собственной логике.
В этом контексте становится очевидной сигилическая природа как карсоновских работ, так и айзенмановских домов или янговских объектов. Сигил работает через разрыв между намерением и его реализацией, — это автономизация знака, действующего не благодаря своей референции, а, наоборот, вследствие своей непрозрачности.
Плакат Карсона — это не просто носитель сообщения, а визуальный объект, который активно сопротивляется интерпретации, создавая собственное поле интенсивности. Аналогично, дом Айзенмана или объект Янга — это не просто здание, а архитектурный сигил, который через свою радикальную нефункциональность открывает доступ к иному порядку реальности.
Во всех этих случаях мы имеем дело с объектами, которые намеренно разрывают привычные семиотические связи между формой и функцией, создавая то, что можно назвать «зоной онтологической турбулентности», и обретая свою подлинную силу именно в момент отказа от конвенционального прочтения и, следовательно, в момент трансмутации в нечто радикально иное — в объекты, которые действуют не через репрезентацию, а через присутствие.
Или, как сказал бы Хайдеггер, не через подручность (ведь мы выпускаем их из рук) — а через наличие.
Может быть, стоит говорить о «сигилической онтологии» как особом суперпозиционном режиме существования объектов, где они одновременно присутствуют в человеческом мире и ускользают от него в своё автономное бытие?
Странные какие-то аттракторы
В определённом смысле, сигил функционирует как интерфейс между личным и безличным, между намерением и его автономной реализацией. Если мы продолжим связывать хаос-теорию с хаос-практикой (то есть магией), то сигилизацию можно рассматривать как создание своего рода «странного аттрактора» в пространстве смыслов — структуры, организующей вокруг себя поле возможностей и схождения различных интерпретаций. При этом конкретный путь реализации желания остаётся принципиально непредсказуемым — как траектория частицы в турбулентном потоке. Как говорят практикующие, «если бы хаос-маг знал, как работает хаос-магия, она бы у него не работала».
В этом контексте особенно важно понятие «вычитания себя», которое мы находим и у Барта с его «смертью автора», и у Батая в его «внутреннем опыте», и у Кроули в практике «отказа от эго», и у Спейра в технике «забывания сигила» — и, позволим себе добавить, в евангельском призыве «отвергнуться себя» (Мк. 8:34). Это не просто психологическая техника или предмет философских медитаций, а конкретная онтологическая операция: надувание чёрного пузыря пустоты, который, лопнув, впустит в себя свет.
Объектно-ориентированная магия
Харман говорит о «викарной причинности» — опосредованном взаимодействии между реальными объектами через их чувственные качества: вещи могут влиять друг на друга [7]. Сигил способен эффективнее, чем другие объекты, функционировать как медиатор. Встроенный в сложную сеть корреспонденций и резонансов через символические соответствия, он создаёт канал взаимодействия между различными планами и порядками.
В книге «Weird-реализм» Харман анализирует вселенную Лавкрафта через призму объектно-ориентированной онтологии: наполняющие эту мифологию сущности принципиально не могут быть описаны напрямую — только через свои эффекты (как и активированные сигилы: мы не можем «увидеть» их напрямую, но можем наблюдать производимые ими изменения) [8]. Вместо попыток сказать что-то конкретное, Лавкрафт плетёт завесу из тавтологических эпитетов: «непроизносимый», «невообразимый», «неописуемый», «богохульный», «чудовищный», «противоестественный», «призрачный», «зловещий», «нездешний», «богомерзкий», «жуткий», «невозможный» — все эти определения наслаиваются друг на друга, создавая эффект бесконечного приближения к чему-то, что принципиально не может быть схвачено языком.
В этом месте стоит употребить язык «тёмной экологии» Тимоти Мортона, который вводит понятие гиперобъекта — сущности, настолько распределённой во времени и пространстве, что мы можем взаимодействовать с ней только через некоторые локальные манифестации (в частности, экологические процессы образуют сложную сеть взаимодействий, не сводимую к простой причинности или обусловленности) [4]. Подобным же образом сигилы порождают «тёмную семиотику» — систему знаков, которые функционируют не через прямую референцию, а через сложные нелинейные взаимодействия между объектами-гиперссылками — точками доступа в более широкие паттерны реальности.
Любопытная параллель возникает между сигилами и концепцией «странных петель» Дугласа Хофштадтера. Странная петля возникает, когда система обращается к самой себе, создавая парадоксальные уровни самореференции. Сигил, который одновременно является частью системы и комментарием к ней, тоже создаёт такую петлю: желание кодируется в символ, который затем влияет на реальность, включая само желание.
Итак, «тёмная магия» в творческой работе — это не мистификация, а осознание фундаментальной непрозрачности реальности и сложности систем, с которыми мы имеем дело, всегда ускользающих от прогнозирования и контроля.
Библиография
1. Деланда М. Новая философия общества. Теория ассамбляжей и социальная сложность / М. Деланда. — Пермь: Гиле Пресс, 2018. — 170 с. 2. Зоря К. Хаос-магия: адаптация магии к эпохе постмодернизма // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. «Тайное и явное»: многообразие репрезентаций эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов Четвертой международной научной конференции (2-4 декабря 2010 г., Днепропетровск) / Под. ред. С. В. Пахомова. — СПб.: РХГА, 2011. — С. 92-101. 3. Кинг Ф. Современная ритуальная магия / Ф. Кинг. — М.: Локид-МИФ, 1999. — 480 с. 4. Мортон Т. Гиперобъекты: философия и экология после конца мира / Т. Мортон. — Пермь: Hyle Press, 2019. — 284 с. 5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Человеческое, слишком человеческое; Так говорил Заратустра: три главных произведения / Ф. Ницше. — М.: Эксмо, 2024. — 768 с. 6. Хаким-Бей. Хаос и анархия: Революционная сотериология / Хаким-Бей. — М.: Гилея, 2002. — 272 с. 7. Харман Г. Объектно-ориентированная онтология: новая «теория всего» / Г. Харман. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. — 272 с. 8. Харман Г. Weird-реализм: Лавкрафт и философия / Г. Харман. — Пермь: HylePress, 2020. — 290 с.
9. Шелдрейк Р. Новая наука о жизни: Гипотеза формообразующей причинности / Р. Шелдрейк; пер. с англ. Е. М. Егоровой. — М.: РИПОЛ классик, 2005. — 352 с. 10. Carrol P.J. Liber Null. IOT PDF, copy from (1981) revised edition [Электронный ресурс]. — URL: www.bahaistudies.net/asma/liber_null.pdf (дата обращения: 23.01.2025). 11. Carson D. The End of Print: The Graphic Design of David Carson / D. Carson, L. Blackwell. — San Francisco: Chronicle Books, 2000. — 192 p. 12. Chmn fr. Хаос-магия: от AOS’а к Пакту, от Пакта к постхаосизму [Электронный ресурс]. — URL: https://katab.asia/2021/03/24/chaos/ (дата обращения: 23.01.2025. 13. Eisenman P. House IV [Электронный ресурс]. — URL: https://eisenmanarchitects.com/House-IV-1971 (дата обращения: 23.01.2025). 14. Eisenman P. House VI [Электронный ресурс]. — URL: https://eisenmanarchitects.com/House-VI-1975 (дата обращения: 23.01.2025). 15. Young M. The Estranged Object / M. Young, Young & Ayata (Firm). — Chicago: Graham Foundation, 2015. — 176 p.